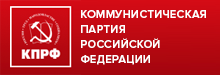К 65-летию памяти И.В. Сталина
и 100-летию заключения Брестского мира
Сталин и Брестский мир
Первым декретом Советской власти был Декрет о мире. Мы, дети 50-х годов героического ХХ века, еще в начальной школе (впервые предмет «История СССР» изучался в четвертом классе) знали его почти наизусть. Декрет о мире навсегда и неразделимо связан с именем великого Ленина и с величайшим днем в истории — 25 октября (7 ноября) 1917 г. Трудно сказать об этом дне лучше Маяковского — трибуна Октября:
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет летá,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слёзы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что прожил,
и роюсь в днях — ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.
Мы помним: 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. На первом заседании не было Ленина — он в это время непосредственно руководил вооружённым восстанием и выступал в Петросовете как представитель Партийного центра Военно-революционного комитета. В составе Партийного центра состоял и Сталин, причем как-то незаметно получилось так, что самые насущные и животрепещущие вопросы практического характера по управлению восстанием решались именно через Сталина. В ходе съезда шли постоянные сообщения о ходе восстания, и повестка дня была, по сути, скомкана. Тем не менее, съезд успел принять исторические документы: написанное Лениным обращение к рабочим, крестьянам и солдатам о свержении Временного правительства и переходе всей власти в руки Советов, программу ближайших шагов Советской власти (это и была, собственно, повестка дня). Но кульминацией первого дня работы съезда явилось сообщение о взятии Зимнего, которому предшествовал вполне отчетливый сигнал:
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
Неописуемое ликование охватило всех делегатов. Хотя формально заседание закрылось поздно ночью, из Смольного почти никто не ушёл — ждали начала следующего заседания. И вот — второе заседание, уже 26 октября, началось появлением на трибуне Ленина. После этого нельзя уже было говорить о «заседании», потому что весь зал встал и двинулся к трибуне. В зал набилось множество людей, кроме делегатов — солдат, матросов, красногвардейцев — людей, которые не могли не прийти сюда и принести с собой горячее дыхание только что одержанной грандиозной победы. Ленин долго не мог начать говорить. Когда же он, наконец, начал свое выступление, никто уже просто не смог сесть — в зале невозможно было даже повернуться. Люди стояли, стиснув друг друга до предела, залезли на подоконники, на выступы колонн, на спинки и подлокотники кресел, даже верхом друг на друга. Так и слушали доклад Ленина — о мире.
Ленин озвучил «самый жгучий и самый больной вопрос»[1] и немедленно перешёл к зачитыванию Декрета о мире — первого декрета Советской власти. Всем воюющим народам и правительствам предлагалось немедленно начать переговоры о мире на условиях отказа от всяких аннексий и контрибуций. Для начала этих переговоров необходимо одновременное перемирие, отказ от тайной дипломатии и уже заключённых тайных договоров. Кроме того, Ленин подчеркнул, что условия переговоров не должны носить ультимативного характера. Мы должны опровергнуть буржуазные лживые представления о силе. Государство сильно сознательностью масс — этот тезис Ленина ставил на совершенно новую основу понимание сути государства и закладывал уже в самый первый день существования социалистического государства основной принцип его непобедимости.
Съезд с исключительным подъемом одобрил ленинский декрет, в котором со всей прямотой говорилось о мирной политике Советского государства и большевистской партии. В условиях мировой войны, унёсшей жизни многих миллионов людей и искалечившей вдесятеро больше, голос только что родившейся Советской власти звучал отражением выстраданных чаяний не только нашего народа, но и всех народов мира.
Что же до правительств, то на декрет откликнулась одна Германия, к осени 1917 года уже ясно осознавшая своё неминуемое поражение в случае продолжения войны на два фронта. 1916 год дорого обошёлся германским стратегам — сначала они не смогли взять Верден, и после того, как «верденская мясорубка» унесла с обеих сторон около миллиона жизней, перешли в наступление на Сомме уже страны Антанты. Оно было не более успешным, чем немецкое — линия фронта переместилась на какие-то черепашьи шаги, но потери оказались ещё больше, чем под Верденом — 1,3 млн. И снова, как и в 1914 г., чтобы облегчить жизнь союзникам, развернула масштабное наступление на Восточном фронте Россия. Немцы не ждали здесь удара — все разведданные показывали, что у русской армии нет необходимого перевеса сил для большого наступления. Но в полной мере проявился полководческий талант генерала Алексея Алексеевича Брусилова, этого «Суворова двадцатого века», как называли его товарищи по оружию. Сумев мастерски, быстро и скрытно перегруппировать силы, он сосредоточил на направлении главного удара (в районе Луцка) почти всю артиллерию Юго-Западного фронта, в особенности новые батареи ТАОН (тяжелой артиллерии особого назначения). Это знаменитое наступление, в ходе которого от австро-германских войск была очищена вся Буковина и большая часть Галиции (на глубину до 400 км и по фронту около 500 км, общая площадь отвоёванной территории около 25 тыс. кв.км), уничтожено около 1,5 млн. живой силы противника и взято в плен 9 тыс. офицеров и 450 тыс. солдат, получило название «Брусиловский прорыв». Чтобы остановить Брусилова, немцам со всех фронтов пришлось перебросить резервы (как писал в своих мемуарах сам Брусилов, «помимо 450 000 человек, бывших вначале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 500 000 бойцов»[2]), и ни о каких наступательных операциях против Антанты уже думать не приходилось. Этого не хватило для повторения 1914 года, когда под Танненбергом была практически полностью уничтожена армия генерала Самсонова, но всё же русское наступление остановилось на рубеже Стохода. Потери русских войск в ходе тяжёлых боев составили почти 500 тысяч (это, между прочим, гораздо больше, чем потери 1914 года в боях в Восточной Пруссии), и все наступательные действия с обеих сторон затихли почти на год. Стали массовыми акции братания, дезертирства, убийства офицеров — больше, конечно, в русской армии, где к концу 1916 года количество дезертиров превысило миллион человек, но и в немецких войсках нарастали деморализующие настроения. К тому же 3 февраля 1917 г. после потопления немецкой подлодкой океанского лайнера «Лузитания» США разорвали дипломатические отношения с Германией и вскоре вступили в войну на стороне Антанты. Так что для немцев в 1917 г. был исключительно выгоден мир с Россией, чтобы сосредоточить все силы на Западном фронте. Возникшая «патовая ситуация», разорвать которую немцы могли только за счет переброски сил с Восточного фронта, других возможностей не предоставляла.
Уже 13 ноября начальник штаба Восточного фронта генерал Макс Гофман, располагавшийся в своей штаб-квартире в Брест-Литовске, получил официальную депешу за подписью наркома иностранных дел Советской России Л.Д. Троцкого с предложением заключить перемирие, а также радиограмму от главкома сухопутных войск России Н.В. Крыленко о прекращении боевых бействий по всему фронту. Гофман немедленно доложил об этом по телефону начальнику Генерального штаба генералу Эриху Людендорфу.
«Можно ли вести переговоры с этими людьми?» — спросил Людендорф.
«Да, можно, — ответил Гофман. — Вашему превосходительству нужны войска, а это самый простой способ их получить»[3].
Оба генерала в этом диалоге больше полагались на сказанное между строк, поскольку надежды на заключение сепаратного мира с Россией витали у них в мозгах уже давно. Немедленно восстановилось в памяти соглашение с Францем Платтеном о разрешении на проезд Ленина в Россию через Германию в марте 1917 г. Фактически это было соглашением между Лениным и Людендорфом, хотя личного контакта между ними не было и быть не могло. Но немецкая дипломатическая миссия в Берне говорила от имени Людендорфа, равно как и Платтен говорил от имени Ленина. Бредовая «макакавка» о том, что Ленин был германским агентом и Октябрьская революция делалась на германские деньги, опровергалась многократно, но прежде всего — в заявлениях самого генерала Гофмана, особо доверенного лица Людендорфа. Он писал: «Лично я ничего не знал о поездке Ленина через территорию Германии. Однако, если бы спросили моё мнение, я навряд ли бы ответил отрицательно»[4].
Лукавил, конечно, генерал — не мог он не знать о поездке Ленина, если об этом знал Людендорф. А с Людендорфом прочнейший альянс у Гофмана сложился ещё с 1914 года, и со временем он только укреплялся. Когда же в августе 1917 г. Гинденбург и Людендорф были назначены на высшие посты в Верховном командовании вооружёнными силами с подчинением непосредственно кайзеру, то многие аналитики расценили это (и до сих пор расценивают) как военный переворот. Верховное командование превратилось в «государство в государстве», причем тандем Гинденбург-Людендорф и германские, и иностранные политики расценивали как некий «брачный союз умов», в котором «Людендорф выполнял роль яркого, привлекающего к себе внимание мужа, заправляющего в семейных отношениях, а Гинденбург — роль спокойной, покорной жены, являющейся «тенью» своего мужа».[5] Но ведь нельзя забывать, что традиционным «генератором идей» для Людендорфа был не кто иной, как Гофман! Содружество Гинденбург-Людендорф-Гофман иногда именовали «третьим триумвиратом», но чаще — просто «ГЛГ». Этот «триумвират» имел по сути диктаторские полномочия. Так, по их указке был сменён канцлер — в августе 1917 г. на этот пост был назначен Георг Михаэлис, который тоже входил в 1914 г. в «восточно-прусскую» команду и ведал вопросами продовольственного снабжения. Теперь он стал чем-то вроде «мальчика на побегушках» при своем прежнем хозяине — Людендорфе, т.е. просто от своего имени озвучивал его решения. Впрочем, он этим занимался недолго — только до октября 1917 г. Далее с ним обошлись как с «пипифаксом» — свою миссию он исчерпал, тем более, что для его отставки нашёлся подходящий повод — он пытался пустить в ход мирное предложение папы римского, которое в тот момент совершенно не устраивало «ГЛГ».
Единственной фигурой в «верхних эшелонах власти» Германии, способной на самостоятельные суждения, был министр иностранных дел Рихард фон Кюльман. Это был прирожденный дипломат, отличавшийся высокой эрудицией и широтой взглядов, его даже называли «самым просвещённым из всех государственных деятелей Германии». Кюльман прямо-таки бравировал своим аристократизмом, подчёркивая дистанцию между собой и «солдафонским» триумвиратом. В определенной степени это было игрой — в действительности он был весьма дальновидным и тонким политиком, но любил создавать впечатление эдакой «небрежности» в делах и видимость поверхностной их оценки. В отличие от «ГЛГ», стремившихся рассматривать любые мирные соглашения только «с позиции силы», Кюльман был далёк от того, чтобы толковать внешнюю политику Германии только как захват чужих территорий. Более того, он считал, что мир на условиях победителя Германии заключить вообще не удастся — слишком увязла она в войне на два фронта. Лучшее, на что можно было рассчитывать, — это мир на основе взаимной истощённости сил и ресурсов, «мир от усталости» при отказе от присоединения на постоянной основе новых территорий. Он пытался организовать «тандем» с Михаэлисом, особенно в вопросе о мирных предложениях папы римского. Но трусливое двурушничество Михаэлиса, закономерно закончившееся «пипифаксом», оставило Кюльмана в одиночестве. Вероятнее всего, «триумвират» постарался бы в скором времени избавиться и от него, но появилась возможность переговоров с Советской Россией. Это был для Кюльмана весьма неплохой шанс выйти на первые роли.
Любопытно, что лозунг, вписанный в российские требования не кем иным, как Сталиным — о праве наций на самоопределение — получил отзвук и у Кюльмана. Германия давно рассматривала вопрос о предоставлении самостоятельности «русской Польши», Курляндии и Литвы[6], а также значительной части западных областей Украины и Белоруссии. Разумеется «самостоятельности» от России и вассальной зависимости от Германии. В частности, после ужасов, пережитых германской верхушкой во время и после Брусиловского прорыва, в ноябре 1916 г. Германия и Австро-Венгрия «достигли соглашения» о создании независимого польского государства. Людендорф очень рассчитывал при этом на то, что ненависть поляков к русским даст весомое пополнение для германских вооружённых сил, поскольку собственное «пушечное мясо» очень уж сильно «исхудало». Само собой, польские солдаты должны были служить под началом германских офицеров. Однако эти надежды рассеялись, как дым. Поляки не дали Четверному союзу ни одного солдата! Одно дело — горланить «аще Польска не згинела», и совсем другое — подставляться под русские штыки. К тому же — умирать не за свои, польские, а за германские интересы. Дзенькуем бардзо! Аналогичная картина просматривалась и в Курляндии, и в Литве, не говоря уже о Белоруссии и Украине. То есть «самоопределение наций» по-кайзеровски (точнее, по «ГЛГ») создало немцам кучу проблем. Мирные предложения России и здесь выглядели для Кюльмана чем-то вроде палочки-выручалочки.
Даже заведомо не замеченные в симпатиях к большевикам аналитики (например, британский историк Джон Уилер-Беннет, автор книги «Брестский мир», впервые вышедшей в 1938 г. и ставшей бестселлером, выдержавшим 4 издания при жизни автора и переведённым на многие языки, в том числе на русский) рассматривали так называемое «соглашение» между Лениным и Людендорфом о возможности проезда в Россию через Германию не иначе, как акт полнейшего недоверия друг к другу и стремления использовать противную сторону в своих интересах, как далеко рассчитанную дипломатическую игру: «Людендорф рассуждал примерно так: «Сначала Ленин отстранит от власти русских патриотов, а затем я повешу Ленина и его друзей». Ленин же мыслил следующим образом: «Я проеду через Германию в машине Людендорфа, а потом рассчитаюсь с ним за услуги по-своему»».[7] И сквозь зубы Уилер-Беннет вынужден признать: «В этой схватке умов… Ленин оказался более искусным и дальновидным».[8]
Так что Гофман и Людендорф в предложениях Троцкого и Крыленко — людей для них новых, но представляющих Советскую Россию — видели продолжение диалога с Лениным. А заявление Гофмана о том, что переговоры вести можно, явно воскрешало в его памяти твердое соблюдение Лениным условий соглашения в Берне, а именно: отказ от контактов с германскими социал-демократами, добивавшимися встречи с ним во время стоянки поезда на германской территории. Одно только Гофману было невдомёк: для Ленина Каутский, Шейдеман и Эберт, голосовавшие в 1914 г. за военные кредиты, были такими же врагами, как Людендорф и кайзер. Он презрительно отвернулся от них не потому, что имел какие-то шкурные интересы (которых в принципе не могло существовать), и не потому, что боялся санкций со стороны германских властей (от русских властей он понавидался видов куда более «развесистых»), а потому, что не желал иметь ничего общего с теми, кто предал дело мирового социализма.
Генерал Гофман вряд ли читал работу Ленина «Крах II Интернационала»! Но он воспринял предложения Троцкого и Крыленко как подарок судьбы, поскольку прекращение военных действий на Восточном фронте позволяло перебросить все силы на Западный. И в течение всего ноября 1917 г. эшелоны с войсками тянулись с востока на запад. Да вот только, как и в случае с немецкими социал-демократами, Гофману с Людендорфом было никак не понять: эта переброска войск не только не усилила боеспособность Западного фронта, но, наоборот, предопределила его полный развал. Все войска, переброшенные с Восточного фронта, уже прошли такую мощную пропагандистскую обработку в духе: «Братья солдаты Германии! Выдающийся пример вашего лидера Либкнехта, та борьба, которую вы ведете на встречах, митингах и через печать, наконец, революционное восстание на вашем флоте являются для нас гарантией того, что трудящиеся массы начали настоящую и решительную борьбу за мир!», что Гофману впору было хвататься за голову. Масштабы большевистской пропаганды были поистине гигантскими и явно недооценивались германским командованием. Это потом — и Людендорфу, и Гофману — придётся признать, что потери на Восточном фронте в итоге оказались больше, чем на Западном, хотя там вроде бы не было ни Марны, ни Вердена, ни Соммы. Зато там, кроме Брусилова, была ещё и большевистская пропаганда!
16 ноября имперские представительства в Берлине и Вене официально заявили о согласии вести переговоры о перемирии. 17 ноября дипломатические представительства союзных России стран были поставлены в известность о достижении соглашения о предварительном перемирии и приглашены для участия в предстоящих переговорах. Ответом было полное молчание.
19 ноября (3 декабря) переговоры в Брест-Литовске начались. Российскую делегацию на этом этапе возглавлял Адольф Иоффе, социал-демократ с конца 90-х годов, член петроградского ВРК в дни Октября, пришедший в партию большевиков вместе с «межрайонцами» Троцкого. Это был типичный революционер-интеллигент, в котором мыслитель перевешивал практика. Вообще формирование делегации Советской России для переговоров в Брест-Литовске — первой акции новой, советской, дипломатии — представляло большие трудности. С одной стороны, делегация должна была быть достаточно профессиональной, чтобы вести диалог с прожжёнными политиканами Запада. С другой — должна была представлять революцию, т.е. представлять её движущие силы в лице прежде всего пролетариата, а вместе с ним — крестьянства, солдат и матросов. И, между прочим, всё это было в наличии — вместе с Иоффе, Каменевым и Караханом, представлявшими нечто похожее на профессиональных дипломатов, делегацию составляли солдат Беляков, матрос Олич, рабочий Обухов и крестьянин Сташков. Кроме того, в составе делегации были армейские и флотские офицеры во главе с адмиралом Альтфатером.
Делегации России была придана инструкция, первые два пункта которой были написаны Лениным, а дальнейшие — Сталиным. Если Ленин сформулировал общие принципы в духе Декрета о мире, на которых должна была держаться позиция России на переговорах (непризнание аннексий и контрибуций), то Сталин разработал конкретные тактические действия: право на самоопределение всех наций, входящих в состав воюющих стран, проведение референдумов всего населения самоопределяющихся областей, правила установления границ, вывод войск из самоопределяющихся областей, возвращение беженцев, создание временных демократически избранных правительств в этих областях под контролем комиссий всех договаривающихся сторон и даже такой вопрос, как отнесение расходов на проведение перечисленных мероприятий на счет средств оккупировавшей стороны.[9]
Как видим, тандем Ленин-Сталин, сложившийся в ходе революционных событий, установил предельно чёткое взаимодействие в плане выработки важнейших директив при полном взаимопонимании.
Конкретные предложения российской делегации были следующими:
- Перемирие сроком на 6 месяцев.
- Вывод военных и морских сил Германии с Моонзундских островов и из акватории Рижского залива, включая город Ригу.
- Невозможность переброски войск Германии с Восточного фронта на другие фронты.
Немецкая сторона в лице генерала Гофмана поначалу чуть ли не сбросила со стола советские предложения, но потом принялась их изучать. Первое предложение Гофман не отвергал, хотя требовал уточнения сроков. Второе привело его прямо-таки в бешенство: «Такие условия могут предлагаться только побеждённой стороне! Достаточно взглянуть на карту, чтобы судить, кто может считать себя таковой!» Третье же его озадачило: получалось, что Советская республика печётся об интересах Антанты, то есть своих классовых врагов. Особенно же генерала удивило то, что именно на третьем предложении советская делегация настаивала с выдающимся упорством. Обе стороны сделали паузу для консультаций. Беседы Гофмана с Людендорфом и Кюльманом заставили генерала постучать себя по лбу: ведь большинство войск и так уже переброшено ещё до начала переговоров, а из остальных значительная часть грузится в эшелоны. Сообщение же по «Бодо» Совнаркома содержало прямой приказ не подписывать перемирия, если немцы отказываются принять пункт о перебросках. Чтобы сохранить лицо, Гофман создал военную комиссию, которая (якобы после тщательной экспертизы положения на фронте и в тылу) предложила заключить перемирие на 10 дней с последующим продлением на срок переговоров и согласиться с третьим предложением, добавив только за исключением тех, которые в момент подписания перемирия уже находились в пути или приказ на переброску которых был уже отдан. На самом деле эта «комиссия», естественно, ничего не рассматривала, поскольку всё необходимое для принятия решения у Гофмана, как начальника штаба Восточного фронта, и так было в распоряжении. А вот в качестве реакции на требование советской стороны «рассмотреть перемирие на всех фронтах с точки зрения заключения всеобщего мира на основе, выработанной Всероссийским съездом Советов» Гофман ехидно спросил, имеет ли советская делегация полномочия от своих союзников по Антанте выступать с подобными предложениями. За этим вопросом стояла осведомленность Гофмана о договоренности между всеми странами Антанты (включая Россию) о невозможности заключения сепаратного мира. Иоффе был вынужден признать, что делегация таких полномочий не имеет, а сепаратный мир она не может заключить без консультаций с Петроградом. Поэтому, подписав 21 ноября (5 декабря) соглашение о прекращении боевых действий на время переговоров, основные действующие лица разъехались по своим столицам. В переговорах наступил перерыв.
Наступивший перерыв для обеих сторон ни в коем случае не был отдыхом. Напротив, ожесточённые дебаты шли как в ставке кайзера, так и в Смольном. Как достаточно метко выразился Уилер-Беннет, «истории было угодно распорядиться так, что за столом переговоров встретились представители самого революционного режима, с одной стороны, и самой реакционной военной касты из существовавших в каких-либо правящих кругах того времени — с другой».[10]
Иоффе и Каменев выражали искреннее удовлетворение тем, что российские предложения в основном приняты Четверным союзом, поскольку прозвучали слова согласия на заключение мира «без аннексий и контрибуций» и «с соблюдением права наций на самоопределение». Однако высшее руководство Советской республики не разделяло этих восторгов. В газете «Правда» от 29 ноября появилась редакционная статья, в которой заявлялось, что осуществление права на самоопределение только «по конституционным каналам» (добавление Кюльмана и министра иностранных дел Австро-Венгрии Чернина) сводит на нет сам принцип самоопределения: «хотя Центральные державы и согласны с тем, чтобы не использовать право сильного на тех территориях, которые были заняты во время войны, они фактически ничего не готовы сделать для малых народов и народностей на своих собственных территориях. Война не закончится до тех пор, пока независимость малых народностей не будет восстановлена!»[11]
Надо ли особо отмечать, что «Правда» в этой статье говорила голосом Сталина? Он трезвее многих оценивал ситуацию на переговорах с самым реакционным режимом. Между тем оценки первого тура переговоров как возможности восстановления границ России 1914 года с выводом австро-германских войск со всех оккупированных территорий явно преобладали. Кроме того, Иоффе возлагал немалые надежды на то, что во время перерыва к переговорам присоединятся державы Антанты. 24 ноября (7 декабря) Наркоминдел снова обратился к союзным послам с нотой, требуя ответа, готовы ли они участвовать с мирных переговорах. В случае отказа Наркоминдел настаивал, чтобы правительства Англии, Франции, Японии и других стран союза открыто, ясно и определенно заявили, во имя каких целей они заставляют народы истекать кровью четвертый год.
Хоть во главе Наркоминдела и стоял Троцкий, в этой ноте ясно слышен голос Владимира Ильича Ленина. Троцкий же, как и Иоффе, подпал под впечатление согласия противной стороны на советские предложения, хотя и испытывал большое недоверие к немцам: «Мы ясно видели, что все это — притворство и лицемерие. Однако мы не рассчитывали даже и на это; ведь разве лицемерие не является той данью, которую порок платит добродетели?»[12]
Заявление, конечно, любопытное, и понимать его можно как угодно. С одной стороны, Троцкий осуждает притворство и лицемерие Кюльмана-Чернина-Гофмана. С другой — на что, собственно «мы» рассчитывали? И кто имеется в виду под «пороком и добродетелью»? В конце концов, кто такие «мы» в интерпретации Троцкого?
Антанта продолжала безмолвствовать. Но не следует думать, что она бездействовала. Антанта организовывала свои силы — нет, вовсе не для мобилизации дополнительных резервов для борьбы с Четверным союзом теперь уже без России — для свержения Советской власти в России. 30 ноября в Париже собралась межсоюзная конференция, обсуждавшая один-единственный вопрос — «русский вопрос». После окончания работы конференции им продолжал заниматься спешно созданный Верховный совет (!!), состоящий в основном из военных экспертов и предназначенный для разработки планов военного вмешательства в дела Советской России.[13]
Не правда ли, более чем характерная картинка для карикатур на «мурло мирового империализма»: Советская Россия в Бресте и Петрограде по возможности отстаивает интересы не только свои собственные, но и союзных стран, а эти самые союзные страны, игнорируя все призывы участвовать в мирных переговорах, энергично создают планы военной интервенции в Россию! И это при всем том, что германский «триумвират» во всю мочь перебрасывает войска на Западный фронт, германские подлодки топят все подряд корабли Антанты, а Советская Россия согласна на любые условия мира, только бы это дало ей возможность выйти из войны! Вывод-то отсюда следует один-единственный: Советская власть для буржуев несравненно опаснее любых морей и океанов крови, пролитых собратьями по классу.
В Берлине страсти кипели не меньше, чем в Петрограде. Левые и центристские партии рейхстага приветствовали заключение перемирия и кажущиеся миролюбивыми заявления Кюльмана и Чернина. Однако правые расценили всё это как предательство интересов империи. То же звучало из ставки кайзера в Крейцнахе. По мнению Верховного командования, перерыв в переговорах был совершенно излишним и ничего не давал, поскольку страны Антанты не примут предложение участвовать в переговорах. Гинденбург направил в Брест-Литовск возмущённую телеграмму, протестуя против «капитулянтской политики» (это Гинденбург-то, который даже на совещании в присутствии самого кайзера откровенно дремал), а разъяренный Людендорф позвонил Гофману «по прямому проводу» и потребовал объяснений. Для Гофмана это оказалось неожиданностью: он пребывал в хорошем настроении, будучи уверен, что ему удалось «ловко провести» русских с перебросками войск. Как отметил сам Гофман в дневнике, «я легко мог заверить русских в том, что во время перемирия никакие войска не будут вновь отправлены на запад, кроме тех частей, которые уже туда отозваны».[14] Слыша истерические ноты в голосе Людендорфа, он поспешил «прикинуться шлангом» и подчёркнуто спокойным тоном заметил, что он не присутствовал на совещании в Крейцнахе и не знает, о чём там шла речь. В то же время он клятвенно пообещал Людендорфу постараться убедить Кюльмана отказаться от политики лавирования и виляния. Это, впрочем, не очень успокоило Людендорфа, и он в очередной раз устроил кайзеру «семейную сцену»: «если Кюльман будет продолжать свою политику, то фельдмаршал и я подаем в отставку!».
Карьера Кюльмана повисла на волоске. Но Кюльман — тоже в очередной раз! — подтвердил свою репутацию самого дальновидного государственного деятеля империи. Он весьма предусмотрительно покинул Брест на время перерыва в переговорах и показал, что обладает крепким характером и ясным умом. Кюльман сумел добиться аудиенции у кайзера (для чего ему пришлось проявить, пожалуй, больше дипломатических усилий, чем на переговорах в Бресте — престарелый канцлер Гертлинг, посаженный на место Михаэлиса все той же «семейной парой», вовсе не горел желанием помогать Кюльману), и Вильгельм II, видимо, в припадке храбрости, принял решение вопреки мнению высшего командования. В послании кайзера Кюльману говорилось: «Я лично выражаю Вам свое удовлетворение». Хотя это послание, судя по всему, было написано под диктовку Кюльмана, последний воспользовался им в полной мере. Он немедленно довёл его до сведения Чернина, добавив от себя: «Кайзер — единственный разумный человек во всей Германии».
В общем, Кюльману удалось «объехать на козе» всемогущий «триумвират», и это, с одной стороны, было началом конца «ГЛГ». Но, с другой стороны, стычка с Верховным командованием резко ужесточила поведение Кюльмана во время следующего тура переговоров. Это, несомненно, сказалось как на их ходе, так и на результате.
|
Руководители дипломатических миссий Четверного союза в Бресте: Гофман (Германия), Чернин (Австро-Венгрия), Талаат-паша (Турция), Кюльман (Германия), Попов (Болгария) |
Оставшиеся в Бресте члены российской делегации оживлённо обсуждали между собой кажущийся успех, и это не могло не дойти до сведения Гофмана. Получив, с одной стороны, «накрутку» от Людендорфа, а с другой — информацию о том, что «русские уже обсуждают возвращение к границам 1914 года», он заявил Кюльману и Чернину, что «надо немедленно развеять иллюзии русских. Если русские будут продолжать думать, что мы на это согласны, и возобновят переговоры с этой позиции, а потом поймут, что ошиблись, это может вызвать такой взрыв негодования, который сорвет переговоры. Поскольку допустить срыв переговоров нельзя, а Верховное командование и так недовольно ходом переговоров, оно будет недовольно вдвойне, если немедленно всё не прояснить».[15]
Следующий тур переговоров начался с того, что Гофман, отбросив дипломатические церемонии, заявил, что у русской делегации сложилось неправильное понимание того, как страны Четверного союза трактуют принцип «без аннексий». Советское правительство само признает право на самоопределение наций, что было зафиксировано в Декларации прав народов России, принятой 2 (15) ноября 1917 г., Польша, Курляндия и Литва уже этим правом воспользовались, и Центральные державы считают себя вправе пытаться достичь понимания с представителями этих стран напрямую, без участия России.
Читай: мы за самоопределение наций, обитающих на оккупированных Германией территориях, только «самоопределение» под дулами германских пушек! Гофман словно держал перед собой редакционную статью «Правды»!
Иоффе, слушая это, «выглядел так, как будто его ударили по голове».[16] «Какой же это мир без аннексий, если от России отрываются и становятся сателлитами Германии целых восемнадцать провинций и областей?» Он пытался апеллировать к Кюльману, но тот безмолвствовал. Тогда Иоффе пригрозил прекратить переговоры. Но угроза ещё не означает официального демарша. Немцы оставались непреклонными. До ухода российской делегации с переговоров оставался один шаг, и здесь не выдержал Чернин. Он чувствовал за своей спиной катастрофическое положение Австро-Венгерской империи, которой должен был обеспечить мир и хлеб. Он внёс предложение: «хотя Германия не может вывести свои войска с занятых территорий до тех пор, пока не будет заключен всеобщий мир (а страны Антанты молчат), после его заключения на этих территориях можно будет провести плебисцит при одновременном предоставлении России гарантий, что не будет никакого вмешательства извне с целью оказать воздействие с помощью силы на народное волеизъявление».[17]
Надо признать, блестящий образец дипломатических витиеватостей! Вроде бы всё в соответствии с принципами самоопределения, но в то же время оставление германских войск на оккупированных территориях до заключения всеобщего мира (а это зависит от стран Антанты, которые явно не будут спешить с его заключением), и тут же — реверанс в сторону России, которой якобы должны быть предоставлены «гарантии».
Но Чернин не достиг цели. Ни Кюльман, ни Иоффе не согласились с его предложением. В переговорах с 15(28) декабря снова наступила пауза, которая грозила их полным срывом, но, тем не менее, ни та, ни другая сторона не заявили об отказе от продолжения диалога.
Советское руководство окончательно убедилось в том, что никаких надежд на участие всех воюющих стран в переговорах нет. В этом плане оказались правы господа «ГЛГ». Что ещё хуже: хотя революционная ситуация в Германии и Австро-Венгрии и назревала, но ещё не «созрела» до такой степени, чтобы можно было ждать немедленного падения монархических режимов Вены и Берлина. Ленин с присущей ему интуицией гениального политика почувствовал, что в данный момент рассчитывать на поддержку рабочими Европы позиции Советского правительства не приходится, и необходимо сместить акценты на переговорах. Мировая революция — это мечта, которая когда-нибудь непременно осуществится, а русская революция — это реальность, и её надо спасти и укрепить во что бы то ни стало. Следовательно, необходимо всемерно затягивать переговоры в Бресте, одновременно принимая все меры по укреплению внутреннего положения в Советской России. Иоффе явно исчерпал свои возможности по части ведения дипломатической игры, и дальнейшее продолжение в том же составе грозит непредсказуемыми осложнениями. Необходима более масштабная фигура для обозначения интересов Советской России перед лицом международного империализма. После обстоятельных консультаций, проведенных как со Сталиным, так и с другими представителями высшего руководства («малый Совнарком»), Ленин предложил возглавить делегацию Троцкому. Это, кроме всего прочего, соответствовало правилам дипломатического этикета — ведь с германской и австро-венгерской стороны присутствовали главы министерств иностранных дел. Троцкий согласился. Но заменить руководителя делегации — это ещё не значит радикально изменить ситуацию. Переговоры до сих пор шли в Бресте — весьма двусмысленное место, штаб-квартира командования Восточного фронта Германии, расположенная на оккупированной территории России. Сама «дислокация» располагает к тому, чтобы немцы вели разговоры «с позиции силы». Ленин предложил перенести переговоры в Стокгольм или другой заведомо нейтральный город. Из нейтральной страны можно было бы легче демонстрировать советскую политику мира перед народами воюющих стран, избавиться от стеснительного надзора немцев, которые в Бресте перехватывали все радиосообщения и даже контролировали все переговоры по прямому проводу.
20 декабря (2 января 1918 г.) председателям германской, австро-венгерской, турецкой и болгарской делегаций была послана телеграмма от имени Совнаркома с настоятельным предложением перенести переговоры в Стокгольм. Вместе с тем в телеграмме подчеркивалось, что формулировка германского блока по территориальным вопросам противоречит принципу свободы самоопределения наций, даже в том ограничительном его толковании, которое дано в декларации, зачитанной Кюльманом.
Телеграмма советского правительства вызвала переполох в лагере противника. Особенно запаниковала Австро-Венгрия. Чернин в своём дневнике записал: «Настроение как у нас, так и у германцев весьма подавленное. Нет сомнений, что если русские решительно прервут переговоры, положение станет весьма тягостным. Единственный выход из положения заключается в быстрых и энергичных переговорах с украинской делегацией».[18]
Почему вдруг противная сторона уцепилась за Украину? О, это вопрос особого интереса. Накануне отъезда из Бреста советской делегации во главе с Иоффе, во время той самой «беседы за чашкой чая», где Гофман «разъяснял» позицию Четверного союза насчет аннексий и права на самоопределение наций а-ля «ГЛГ», он между прочим задал вопрос, в каком состоянии находится пассажирское сообщение с Украиной. Советская делегация, пребывающая в шоковом состоянии, выразила недоумение по поводу такого вопроса, дескать, причем тут мамины калоши. Вроде бы речь идет о Лифляндии, Эстляндии и Финляндии, из которых Четверной союз чрезвычайно желает удалить российские войска, и вдруг — сообщение с Украиной. В ответ Гофман пояснил, что от Украинской Центральной Рады поступило сообщение о выезде в Брест украинской делегации. Генерал хотел бы знать, каким путем прибудет делегация, чтобы позаботиться об установлении с ней телеграфной связи.
Манёвр немцев был ясен. Оккупацию Польши и Прибалтики они желали прикрыть ссылками на национальную политику Советской власти — эти области якобы сами отделились от России согласно принципу самоопределения, и дальнейшая их судьба России не касается. А ежели Советская Россия не согласна с таким «самоопределением», то против неё будет двинута вся Украина!
Генерал Гофман был отлично осведомлён о позиции буржуазной Центральной Рады, которая после Октябрьской революции объявила себя верховным органом «Украинской народной республики» и стала на путь открытой борьбы с Советской властью. Ввиду этого Совнарком 3 (16) декабря 1917 г. постановил обратиться с ультиматумом к Раде и одновременно с манифестом к украинскому народу. Составление манифеста было поручено комиссии, в которую входили Ленин как председатель и Сталин как нарком по делам национальностей. Текст манифеста в основном готовил Ленин, ультиматума — Сталин. В ходе разработки было решено объединить и манифест, и ультиматум в один документ, названный «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской раде».[19]
Сталин выступил на заседании ВЦИК, где подчеркнул три момента в контрреволюционной деятельности Рады: 1) стягивание украинских частей на Южный фронт; 2) разоружение советских войск на Украине; 3) непропуск Радой советских войск против Каледина. Все эти вещи делают позицию Рады не менее контрреволюционной, чем откровенная белогвардейщина. Вместе с тем Сталин отметил, что большинство военных-украинцев отказалось выполнять приказы Рады, заявив о верности Совнаркому. Что же до разоружения советских войск на Украине и непропуске советских войск против Каледина, то это — прямое предательство и отстаивание интересов украинских помещиков и буржуазии в ущерб интересам трудового народа. Рада изволит самым наглым образом подменять самоопределение трудового казачества самодержавным «самоопределением» атамана Каледина, части которого беспрепятственно пропускаются на Дон и зверски обходятся со сторонниками Советской власти. Одновременно с этим Рада препятствует помощи товарищам, которых расстреливают в Ростове и Донбассе. Сталинский ультиматум ставил следующие вопросы:[20]
- Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта?
- Обязуется ли Рада не пропускать впредь без согласия верховного главнокомандующего никаких воинских частей, направляющихся на Дон, на Урал или в другие места?
- Обязуется ли Рада оказывать содействие революционным войскам в деле их борьбы в контрреволюционным кадетски-калединским восстанием?
- Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоружения советских полков и рабочей Красной гвардии на Украине и возвратить немедленно оружие тем, у кого оно было отнято?
В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение 48 часов Совнарком объявлял открытую войну Раде как врагу Советской власти на Украине и в России.
Надо понимать, что генерал Гофман был осведомлён и об этом ультиматуме. Однако его солдафонский демарш насчет приёма в Бресте делегации Рады осложнил не столько позицию Советской России на переговорах, сколько отношения между делегациями Четверного союза.
Интересы Германии и Австрии по отношению к Украине не совпадали. Это было тесно связано с разногласиями вокруг Польши. Признав «независимость» Польши (от России), немцы и австрийцы никак не могли договориться о территориях, которые надлежало включить в состав новоиспеченного «самоопределяющегося» государства. Сами поляки, с которыми велись переговоры, требовали включить в состав Польши Галицию, находившуюся до того в составе Австро-Венгрии. Немцы в принципе не возражали против этого, поскольку рассчитывали, что вся Польша будет их сателлитом, но на этот счет не было единодушия даже в «ГЛГ». Людендорф был сторонником полного присоединения Польши к Германии, Гофман опасался слишком сильного «разбавления» немецкого населения славянами (в Восточной Пруссии и так было много славянских фамилий и названий населённых пунктов), Кюльман высказывался против прямой аннексии Польши и предлагал прикрыть её «добровольным соглашением» с оккупированными странами. Гинденбург, всегда согласный с Людендорфом, сумел пробудиться на тронном совете у кайзера и потребовал отправить Гофмана в отставку. В противном случае он грозил уйти в отставку сам. Кюльман, стремясь уладить противоречия, предложил Людендорфу самому поехать в Брест. Тот заявил, что его поездка была бы лишней затеей: «он там может только напортить».[21] Перепалка продолжалась несколько часов, в конце концов кайзер отклонил отставку Гофмана, а по вопросу о Польше согласился с Людендорфом. Осталось уговорить Австро-Венгрию.
Это было вовсе не простой задачей — фактически Германия умыкала целую аппетитную область у своего союзника. Речь шла о передаче Австро-Венгрии вместо Галиции Румынии. Румынию, разумеется, никто спрашивать не собирался. К тому же у Германии были свои виды на Румынию, и вот здесь-то возник соблазн разыграть украинскую карту. Соглашаясь на переговоры с украинской Радой, немцы рассчитывали «козырнуть» одновременно против Советской России и против Австро-Венгрии.
А что же Украина? Ультиматум 4 (17) декабря поверг Раду в ужас, поскольку она уже получила весьма солидную поддержку Антанты на предмет разжигания контрреволюционных настроений и всемерной помощи Каледину и Дутову. Сталин, составляя ультиматум, очень точно подметил, что приказы Рады не выполняются большинством военных и вызывают возмущение народных масс на Украине. Сама Рада тоже не могла не знать об этом. Участие в полномасштабной войне против Советской России ничего хорошего Раде не сулило, и она предложила Совнаркому вступить в переговоры. Одновременно с посылкой телеграммы с предложением переноса переговоров со странами Четверного союза в Стокгольм (2 января) Совнарком согласился на предложение Рады о вступлении в переговоры. Сложилась весьма любопытная ситуация: Центральная рада взялась вести переговоры сразу с тремя взаимно исключающими сторонами. Немцы ухватились за столь «универсальных» дипломатов и постарались ускорить их прибытие в Брест. Но в это время в Киеве уже находились советские войска, а территория, контролируемая Радой, сокращалась подобно шагреневой коже. Сталинский ультиматум не расходился с делом! Спасти власть Рады могли только иностранные штыки, и «универсальные дипломаты» были готовы на любое предательство. Они обещали немцам хлеб, продовольствие, руду, контроль над железными дорогами — словом, всё, что могло представлять для Германии интерес — при одном-единственном условии: поскорее двинуть на Украину немецкие войска.
Гофман быстро разобрался, с кем имеет дело. Он сначала принялся настраивать украинцев против Австро-Венгрии, но когда они заявили претензии на Холмщину, Буковину и Восточную Галицию, то он деловито разъяснил, что они хватают через край: требовать присоединения к Украине «исконно австро-венгерских провинций» (!!) — это слишком. Дав по губам «универсальным дипломатам», он в то же время организовал «утечку информации», чтобы претензии Украины стали известны Чернину. Чернин, ведя свои переговоры с украинцами, понимал, что представители Рады — марионетки в руках немцев. Но отчаянное положение с продовольствием в Австро-Венгрии вынуждало его добиваться скорейшего соглашения с Украиной о поставках хлеба. Те, в свою очередь, понимали намеки Гофмана и упирались, как могли. Гофман, таким образом, с помощью жалких предателей Украины добивался уступок от Австро-Венгрии в польском и румынском вопросах. Он записал в это время в дневнике: «Они прекрасно знали, что ничего не имеют за собой, кроме возможной немецкой помощи; они прекрасно отдавали себе отчет и в том, что их правительство представляет собой фиктивное понятие. И все же в своих переговорах с графом Черниным они твёрдо держались своих ранее выставленных условий».[22]
Переговоры с Радой затягивались. Пришлось даже отложить открытие конференции: Кюльман и Чернин приехали в Брест 4 января (22 декабря), а переговоры с российской делегацией возобновились только 9 января (27 декабря).
На переговорах наступил новый этап.
Ситуация заметно поменялась по сравнению с моментом отъезда советской делегации во главе с А. Иоффе. Среди вновь прибывших наиболее значимой фигурой был, конечно, Л.Д. Троцкий. Появились также представитель Польского регентского совета граф Тарновский и, что в итоге оказалось важнейшим обстоятельством, делегация украинской Центральной рады, уже ведущей переговоры с немцами и австрийцами. Об украинских представителях во главе с В. Голубовичем Дж. Уилер-Беннет довольно презрительно отозвался как о «делегации молодых людей студенческого возраста»,[23] зато прибытие Троцкого он описал весьма выразительными красками.

В самом деле, сама обстановка в российской делегации изменилась радикально. Во-первых, Троцкий привез с собой новых людей, примечательной личностью среди которых был Карл Радек. Он сразу же дал понять, что дружелюбное и неформальное общение между делегациями, имевшее место при руководстве Иоффе, отменяется. Выразил это Радек своеобразно: при подъезде поезда к перрону он высунулся из окна и стал разбрасывать газеты и пропагандистские материалы прямо под ноги солдатам почетного караула, встречавшего российскую делегацию. Само собой, подобная акция была предварительно согласована с Троцким. Гофман пытался устроить церемонию представления членов новоприбывшей российской делегации принцу Баварскому, но Троцкий решительно воспротивился этому. Кроме того, он потребовал, чтобы русская делегация питалась отдельно от других. При посадке в автомобиль возник спор между Радеком и водителем, а когда Гофман поддержал водителя, то Троцкий заявил, что впредь члены российской делегации будут ходить пешком, постоянно созерцая вывешенные ранее для русских военнопленных предупреждения типа «Каждый задержанный здесь русский будет расстрелян».
Всё это подчеркивало пропасть между позициями сторон на переговорах. Вся манера поведения Троцкого заставляла думать, что дипломатическая миссия для него является тяжким и мучительным бременем, и что он уже не раз пожалел, что согласился на предложение Ленина возглавить делегацию. Влияние личности Троцкого на окружающих было несомненным — кого-то он раздражал, кому-то весьма импонировал, но никого не оставлял безразличным. Уилер-Беннет передает впечатления встречавших Троцкого: «Неуемный и неутомимый, движимый бурлящей внутри него кипучей энергией, он был бескомпромиссен, язвителен и беспощаден в полемике с противником; с бесстрашием и презрением встречал неудачи. Разносторонне развитый и эрудированный, он мог очаровывать в те редкие минуты, когда находился в добром расположении духа, однако более типичным для него было состояние презрительного гнева. Он был похож на пламя, готовое вспыхнуть в любую минуту».[24]
Дипломатический «шарм», атмосфера показного внешнего дружелюбия и дежурных фраз настолько тяготили Троцкого, что он был готов сорваться на резкости, весьма далекие от привычной манеры общения в дипломатических сферах. Так, при первой встрече с Кюльманом Троцкий услышал, входя в зал заседаний: «Лучше иметь дело с хозяином, чем с его посланцем». Вроде бы Кюльман не сказал ничего обидного, напротив, постарался в своей обычной аристократической и немного развязной манере произнести комплимент и тем самым расположить к себе будущего противника на переговорах. Троцкий же так описал это в своих воспоминаниях «В тот момент у меня возникло ощущение, что я наступил на что-то грязное. Я даже невольно отпрянул. Кюльман понял свою ошибку, взял себя в руки. собрался и в дальнейшем уже держался более официально».[25]
Вообще-то согласиться с Троцким, что «Кюльман понял свою ошибку», довольно трудно. С таким же успехом можно было бы предположить, что Кюльман внутренне пожал плечами и заключил, что с этим неотесанным мужланом на дипломатическом языке разговаривать не следует.
Как только открылась конференция, слово взял Кюльман, категорически возразивший против переноса переговоров в нейтральную страну. Кроме того, он прямо-таки в менторском тоне упрекнул российскую делегацию в опоздании, поскольку десятидневный срок, назначенный самой российской стороной, истек еще 4 января в 24.00. Не давая передышки, он добавил, что предыдущие заявления (главным образом, от 15 (28) декабря) теряют всякую силу по причине молчания стран Антанты — а ведь это было главным вроде бы поводом для перерыва в переговорах. Так что по сути он обвинил российскую сторону не только в выдвижении неприемлемых условий и намеренном затягивании переговоров, но и в элементарной дипломатической безграмотности. Закончил Кюльман выступление протестом против «нелояльности» тона советской прессы в отношении Германии, что якобы подвергает опасности весь процесс мирных переговоров — читай, несносные большевики демонстрируют свою неизбывную агрессивность и призывают к мятежу.
И это-то Троцкий расценил как то, что «Кюльман держался более официально»? Злосчастный Адольф Иоффе, его предшественник в Бресте, воспринял куда более мягкие выступления противника как «удар по голове»!
Однако Троцкий не просто выдержал «проверку на прочность», но прямо-таки почувствовал себя в своей стихии. Уж что-что, а вести полемику, не гнушаясь применением некорректных приемов, он был признанным мастером. С видом глубочайшего презрения к противнику он «начал с конца», заявив, что ни условия перемирия, ни характер переговоров не накладывают никаких ограничений на свободу слова и печати. Затем он в язвительном тоне буквально высмеял позицию Германии насчет самоопределения наций, согласно которой волеизъявление народов подменяется, причем в самой грубой форме, волеизъявлением привилегированной группы под контролем органов административного управления — читай, под германскими дулами всех калибров. С таким «самоопределением наций» революционная Россия никогда не согласится. По поводу отказа перенести переговоры в нейтральную страну Троцкий явно дал понять, что немцы, фигурально выражаясь, готовы наложить в штаны при возможности ликвидации неравноправия в виде полного контроля всего хода переговоров вплоть до подслушивания разговоров по прямому проводу при невозможности хоть частичного контроля подобного типа с российской стороны. Конечно, немцам весьма удобно вести переговоры в своей штаб-квартире, но что бы запели Гофман с Кюльманом, если бы их пригласили на переговоры, к примеру, в Смольный?
Гофман при этом побагровел и явно готов был выкрикнуть что-то типа: «Если мы придем в Смольный, то никакие переговоры не понадобятся!», но Кюльман, улыбаясь, прошептал ему что-то на ухо и удержал от выскакивания. Видимо, он отметил, что в своем выступлении он все-таки показал русским пусть маленький, но пряник — дескать, если всё же в конце концов будет подписан мир, то Германия согласна подписать его и в другом месте. Надо подождать реакции Троцкого на этот «пряник». Озадаченный Гофман несколько успокоился, и Троцкий продолжил свою речь. Да, сказал он, «атмосфера в главной квартире неприятельских армий под контролем немецких властей создаёт все невыгоды искусственной изоляции, но мы всё-таки остаемся в Брест-Литовске, чтобы не упустить и малейшей возможности для заключения мира».[26]
Таким образом, с самого начала обозначилась пропасть между позициями сторон, и возможность как-то перешагнуть через неё нужно ещё обсуждать и обсуждать. А ведь Троцкий ещё и мог поиздеваться над лицемерием Кюльмана по поводу опоздания российской делегации, поскольку это «опоздание» имело место по причине закулисных переговоров немцев и австрийцев с украинской Радой, и в опасении, что об этих «манёврах бульдогов под ковром» узнают русские, все миссии Четверного союза с 4 по 9 января чувствовали себя подобно гадюкам на горячей сковороде: а вдруг русские вообще откажутся вести переговоры?
Несмотря на то, что делегация украинской Рады состояла из явно «мелкотравчатых» дипломатов, сам факт её появления на переговорах был отмечен как заслуживающий особого внимания. Дело в том, что в составе советской делегации, приехавшей с Троцким, были представители Польши, Литвы и Курляндии, но не было представителей Советской власти на Украине. Поэтому, когда Кюльман, председательствуя на заседании 10 января (28 декабря) дал слово руководителю делегации Рады Голубовичу и тот заявил, что власть Совнаркома на Украину не распространяется, а поэтому результаты переговоров советской делегации не обязательны для Украины и она будет вести самостоятельные переговоры с Четверным союзом, Троцкий не отвел это заявление как неправомочное. А ведь он прекрасно знал, что дни Рады сочтены, поскольку на Украине против неё ведутся боевые действия от имени советского правительства Украины, действующего совместно с Совнаркомом. Кюльман, почувствовав слабину, немедленно задал несколько вопросов, настойчиво добиваясь от Троцкого определённого ответа, следует ли считать украинскую делегацию частью русской или же она является представительством самостоятельного государства. Троцкий оказался в серьёзном затруднении, поскольку он знал и о согласии Совнаркома от 2 января (20 декабря) на переговоры с Радой. Если он не признаёт делегацию Рады самостоятельной, то с кем же собирался вести переговоры Совнарком? Если же признаёт, то придётся считаться с результатами переговоров Рады с немцами. Троцкий признал украинскую делегацию самостоятельной, хотя вполне мог отвести этот вопрос до прибытия представителей Советской Украины (а они должны были вот-вот приехать, и об этом Троцкий тоже знал). В этом вопросе Троцкий вольно или невольно пошёл навстречу противнику, т.е. Кюльман явно его переиграл.
Правда, Троцкий попытался потребовать пригласить на переговоры не только украинцев, но и представителей всех других приграничных государств (надо признать, смелый и ловкий ход с точки зрения всемерного затягивания переговоров!), но Кюльман, внутренне ужаснувшись от подобной перспективы, нашел не менее ловкий выход. Он изобразил самую благожелательную мину и заявил: «Мы с удовольствием готовы сделать это (Гофман едва не упал со стула, услышав такие слова), но при одном условии: если они выскажутся за германскую точку зрения, Троцкий должен будет с этим согласиться».[27]
Троцкий — блестящий полемист Троцкий! — не нашел возражений и снял своё предложение. А ведь рядом с ним сидели поляки, которые, как мы помним, решительно послали подальше всесильный «триумвират» и вполне могли высказать много нелицеприятного о Германии и её политике на оккупированных территориях. Да, Людендорф крупно промахнулся, желая сыграть на ненависти поляков к русским. А Троцкий не менее крупно промахнулся, отказавшись сыграть на ненависти поляков к немцам! Кто знает, может быть, вся будущая позиция Польши вплоть до Второй мировой закладывалась именно здесь, в Бресте.
Кюльман внутренне перевёл дух (он-то втайне пережил серию кошмаров, представляя, что могли бы выдать поляки, литовцы и латыши по поводу поведения немцев на оккупированных территориях, получи они возможность выступления на конференции) и подвёл итог дискуссии: делегация Украинской центральной рады признаётся как самостоятельный участник переговоров и представитель независимого государства.
Информация о присутствии представителей Рады в Бресте в тот же день попала в Петроград. На нее немедленно и очень резко отреагировал Сталин: «Буржуазные газеты усиленно распространяют слухи якобы «об открывшихся переговорах между Радой и Советом Народных Комиссаров». Круги, близкие к контрреволюционерам, всячески муссируют эти слухи, подчёркивая их «особенное» значение. Дошло дело до того, что многие из товарищей не прочь поверить в сказку о переговорах с Киевской радой, причём многие из них уже обратились ко мне с письменным запросом об её правдоподобности. Заявляю во всеуслышание, что: 1) никаких переговоров с Киевской радой Совет Народных Комиссаров не ведёт и вести не собирается; 2) с Киевской радой, окончательно связавшей себя с Калединым и ведущей изменнические переговоры с австро-германскими империалистами за спиной народов России, — с такой Радой Совет Народных Комиссаров считает возможным вести лишь беспощадную борьбу до полной победы Советов Украины; 3) мир и успокоение на Украине могут прийти лишь в результате полной ликвидации Киевской буржуазной рады, в результате замены её новой, социалистической Радой Советов, ядро которой уже образовалось в Харькове. Нарком И. Сталин».[28]
Это заявление было опубликовано в «Правде» от 13 января 1918 г., когда переговоры в Бресте стали проявлять все признаки затяжных дискуссий. Но неуклюжесть полемики Троцкого уже сказывалась: Германия и Австро-Венгрия за спиной у нашей делегации активно договаривались с Радой как полномочным представителем Украины, одновременно усиливая нажим на Россию.
Затягивание переговоров крайне раздражало германское верховное командование. Каждый день отсрочки подписания мира, учитывая обстановку на фронтах, уменьшал боеспособность германских войск. Людендорф писал в своих воспоминаниях: «Переговоры не двигались с места. Таким способом, каким они велись в Бресте, вообще нельзя было добиться мира, а возможно было лишь ещё больше подорвать наши моральные силы… Я сидел в Крейцнахе как на углях и нажимал на генерала Гофмана, чтобы он ускорил переговоры».[29]
И Гофман старался вовсю. Он каждый день устраивал сцены Кюльману и Чернину, требуя прекратить полемику с Троцким, в которой они не имели никакого перевеса. Наконец, Гофман выступил сам, отчаявшись повлиять на потоки красноречия Троцкого и увертки Кюльмана и Чернина. Его выступление в полной мере соответствовало отзыву Троцкого: «Он показывал, что ему не симпатичны закулисные хитрости дипломатии, и несколько раз ставил свой солдатский сапог на стол переговоров. Мы сразу поняли, что единственная реальность, которую действительно следует воспринимать, — это сапог Гофмана».[30]
В своей речи, которая шокировала даже своих представителей, генерал выразил крайнее возмущение тем, что советская делегация снова потребовала решить судьбу всех бывших областей Российской империи путем всенародного референдума, без всякого внешнего давления и в условиях полной политической свободы. Он в самом высоком тоне заявил (можно сказать — проорал), что «русская делегация заговорила так, как будто она представляет собой победителя, вошедшего в нашу страну. Я хотел бы указать на то, что факты как раз противоречат этому: победоносные германские войска находятся на русской территории!»[31]
Далее Гофман, уснащая речь злобными выпадами против Советской власти, в особенности против большевистской пропаганды, изобразил картину невозможности очищения оккупированных Германией российских областей, поскольку немцы везде застали чуть ли не дикую страну, и все признаки цивилизации там связаны только с присутствием германских оккупационных властей. Заканчивая речь, генерал швырнул на стол карту и заявил: «Я оставляю карту на столе и прошу господ присутствующих с ней ознакомиться!»[32]
Генерал даже не счёл нужным объяснять, что означает та линия, которая была намечена на его карте. А эта «линия Гофмана» отрезала от владений бывшей Российской империи территорию свыше 150 тысяч квадратных километров включая Польшу, Литву, часть Белоруссии и Украины, часть Эстляндии и Лифляндии, побережье Рижского залива и Моонзундские острова. Порты Балтики, попавшие за «линию Гофмана», пропускали 27% всего морского экспорта и 20% импорта России. Эта линия почти не имела естественных рубежей, а на берегу Западной Двины у Риги оставался удобный плацдарм для возможных наступательных операций. Двинская крепость попадала непосредственно в зону артогня. В целом установленная Гофманом «граница» грозила в случае войны оккупацией всей Прибалтики, угрожала Петрограду и в известной степени Москве.
Троцкий, вопреки расчётам Гофмана на то, что подобная «демонстрация сапога на столе» выбьет его из колеи, встретил речь генерала с презрительной улыбкой и выглядел значительно более уверенным в себе, чем во время полемики с Кюльманом. В самом деле, столь откровенное выступление послужило настолько ярким примером оголтелого прусского милитаризма, что вызвало дружные возмущения не только в России, но и в странах Антанты (хоть они и хранили молчание, но слушали всё, что говорилось в Бресте, с большим вниманием), да и в самой Германии не только левые, но практически все политические круги, рассчитывавшие на заключение мира «приличным путем», принялись поносить Гофмана (а с ним — и весь «триумвират») последними словами. Троцкий, как видно, сразу сориентировался, как следует использовать откровения Гофмана в Петрограде. Но — и в Берлине!
Троцкий с видом несомненного интеллектуального превосходства разъяснил, что возмущения генерала по поводу большевистской пропаганды неосновательны, поскольку советское правительство не чинит никаких препятствий распространению германских газет в России, даже тех, которые разделяют мнение генерала Гофмана (здесь даже у членов делегаций Четверного союза появились усмешки на физиономиях), а ведь эти газеты в значительной степени способствуют продолжению и развитию гражданской войны в России. Тем не менее мы не сочли возможным связывать этот вопрос с условиями перемирия.
Здесь попытался вмешаться Кюльман, почувствовав, что Троцкий вот-вот запутает Гофмана своими доводами. Он воскликнул: «Германия твёрдо придерживается принципа невмешательства во внутренние дела России!»
Троцкий с насмешкой ответил, что Германия, поступая так, просто отказывается от попыток морального наступления. Мы рассматривали бы как шаг вперед, сказал он, если бы правительство Германии свободно и откровенно высказало бы свою точку зрения относительно внутренней обстановки в России.[33]
Здесь уже Кюльман явно смешался и не нашёл, что сказать. Позднее он писал о Троцком: «Выражение его лица ясно указывало на то, что он лучше бы завершил малосимпатичные для него переговоры парой гранат, швырнув их через зелёный стол, если бы это хоть как-то было согласовано с общей политической линией»[34].
А Троцкий перевёл разговор в русло неразумных и неумеренных милитаристских поползновений Германии относительно всей Европы, и спор снова затянулся без видимого на горизонте завершения.
Получилось, что Гофман, стараясь как можно лучше выполнить «накачки» Людендорфа, попал в положение унтер-офицерской вдовы, которая «сама себя высекла». Даже сам Людендорф был вынужден признать, что после такого выступления нужно быть глупцом, чтобы согласиться хоть на малейшую уступку. Вот уж точно: заставь дурака богу молиться и т.д. Трещина в фундаменте «триумвирата», возникшая ещё во время первого перерыва в переговорах и связанная с ловким «обходным маневром» Кюльмана, продолжала расширяться и углубляться.
Но не всё было так уж однозначно с затягиванием переговоров, как это склонны были представлять себе в Берлине и Крейцнахе. Да, каждый день перемирия (но не мира) подрывал боеспособность немецких войск. Да, Австрия находилась перед угрозой небывалого голода, который должен был смести империю Габсбургов. Но голод грозил и России, катастрофическая нехватка продовольствия и фуража уже давно душила и армию, и тыл. Невозможно было забыть о том, что Февральская революция началась с требований хлеба, а завершилась мощным призывом: «Долой самодержавие!». Троцкий, зная, что за его спиной и немцы, и австрийцы ведут переговоры с пресловутой Радой, понимал, что простое затягивание переговоров вот-вот приведёт к подписанию соглашения неприятельской стороны с Украиной (ведь он же признал делегацию Рады её полномочным представителем!), и тогда наверняка немцы предъявят ультиматум. А все поставки продовольствия с Украины в Россию полностью прекратятся! К тому же в Петрограде вот-вот должно было открыться Учредительное собрание, а это заставляло Троцкого впадать в неопределенность относительно будущего высшего руководства России.
Гофман, желая немного сгладить эффект своего «сапожного» выступления, решил показать Троцкому «пряник»: хоть Германия и желает получить в виде компенсации за содержание русских пленных 3 млрд. золотых рублей, но она согласна рассмотреть рассрочку выплаты этой суммы в согласованные сроки.
Любезный генерал не мог не знать, что в России находится в плену не меньше австро-германцев, чем русских в Германии. Так что его «пряник» выглядел не очень-то съедобным…
Сразу по окончании заседания, на котором Гофман произнес свою «сапожную» речь, Троцкий послал Ленину письмо, в котором выражал убеждённость в невозможности подписания мира с немцами на поставленных Гофманом условиях. Вместе с тем он, опираясь на якобы надёжную информацию о внутреннем положении в Германии, уверял, что все оппозиционные (и не только левые) партии пойдут на открытый разрыв с правительством, если оно выдвинет захватнические требования в отношении русской революции. Вся немецкая пресса требует договорённости с Россией любой ценой. Следовательно, имея такой тыл, немецкая армия не может начать наступление на Восточном фронте. Поэтому наиболее естественным решением с российской стороны будет прекращение военных действий, но при этом отказ от подписания мира. Это, безусловно, должно форсировать революционные события в Германии, которые неминуемо приведут к падению кайзеровского режима.
Это письмо чрезвычайно озаботило Ленина, он немедленно (15 января) вызвал Троцкого к прямому проводу и назвал его план «дискутабельным». Предложение Ленина сводилось к следующему: отложить окончательное проведение этого плана в жизнь, приняв последнее решение после специального заседания ЦИК. Кроме того, Ленин предложил подождать возвращения с Украины Сталина, без обсуждения с которым он пока не даст ответа на письмо Троцкого. Весьма существенна ещё и добавка Ленина о том, что в Брест «выезжает делегация харьковского украинского ЦИК, которая уверила меня, что киевская Рада дышит на ладан».[35] Через два дня вернулся Сталин, и в Брест полетела телеграмма: «Передайте Троцкому. Просьба назначить перерыв и выехать в Питер. Ленин. Сталин».[36]
В переговорах с 5(18) января был объявлен новый перерыв на 10 дней. Троцкий уехал в Петроград, прихватив карту Гофмана в качестве «вещественного доказательства».
Пока поезд с Троцким доезжал до места, в Петрограде произошло примечательное событие, сделавшее легендарным имя матроса Балтийского флота Анатолия Железнякова: руководимый им караул, охранявший во время заседаний Учредительного собрания Таврический дворец, вошел в зал (время было 4 часа утра), и Железняков объявил: «Господа депутаты, караул устал и просит разойтись!» Попытки протестовать были решительно пресечены выключением света в зале, и на этом деятельность Учредительного собрания закончилась. Так что опасения Троцкого насчет возможных изменений в высших эшелонах российской власти оказались беспочвенными.
А вот его план «ни мира, ни войны» дал исключительно богатую почву для круглосуточных дискуссий. Кроме позиции самого Троцкого, поддержанного Каменевым, обозначилась позиция «левых коммунистов», наиболее отчётливо выраженная Бухариным: «немедленно начать военные действия, всемерно усилив пропаганду среди немецких братьев по классу!». Бухарина поддержало большинство членов ЦИК, среди которых были Александра Коллонтай, Пятаков, Радек, Урицкий. Особенно неистовствовал Радек, который прямо на заседании ЦИК объявил Ленина предателем и завопил: «Если бы в Петрограде нашлось пятьсот мужественных людей, мы бы посадили Вас в тюрьму!». Ленин очень спокойно (а скольких лет жизни ему стоило это спокойствие, остается только предполагать!) ответил: «Действительно, некоторые могут оказаться в тюрьме; но если Вы тщательно взвесите все возможности, то увидите, что гораздо более вероятно, что в тюрьме окажетесь Вы, а не я».
Можно с огромной долей достоверности предполагать, что этот диалог внимательнее других слушал не кто иной, как Сталин, и слова Ленина оказались пророческими. А среди немногих тогда сторонников заключения мира на любых условиях, безусловно поддерживавших Ленина, первым был именно Сталин, и не случайно телеграмма Троцкому с просьбой-требованием возвращения в Петроград для принятия окончательного решения ушла за двумя подписями: Ленин, Сталин.
Ситуация сложилась предельно драматическая. Ленин, не получив большинства в ЦК, выступил с изложением своей позиции 8(20) января 1918 г. перед партийным активом г. Петрограда, апеллируя к партийной общественности. Это выступление, получившее название «Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира» и опубликованное в «Правде», содержит анализ положения дел, глубина которого не идет ни в какое сравнение ни с троцкистами, ни с бухаринцами.[37] Нет необходимости повторяться, разбирая подробно все 22 ленинских тезиса (Уилер-Беннет приводит тезисы Ленина в приложении к своей книге[38], но, как всегда у буржуазных публицистов, устраивает подтасовку, обзывая их «знаменитый 21 тезис» и отбрасывая принципиально важную добавку о массовых стачках в Австрии и Германии, из которой Ленин делает вывод о возможности дальнейшего всемерного затягивания переговоров). Интереснее вспомнить послесловие к упомянутым тезисам, обычно не упоминаемое как в учебной, так и в публицистической литературе. В нем Ленин, откровенно признавая, что заключение мира в данный момент любой ценой не встретило поддержки у большинства руководства РСДРП(б), показывает, что истинно марксистский анализ, требующий учета объективных условий для принятия принципиально важных решений, приводит к единственно правильному выводу: «…коренная перемена состоит теперь в создании республики Советов… выше всего для нас и с международно-социалистической точки зрения сохранение этой республики, уже начавшей социалистическую революцию… в данный момент лозунг революционной войны со стороны России означал бы либо фразу и голую демонстрацию, либо равнялся бы объективно падению в ловушку, расставляемую нам империалистами, которые желают втянуть нас в продолжение империалистической войны… и разгромить возможно более дешёвым путем молодую республику Советов».[39]
Накал борьбы в руководстве РСДРП(б) можно представить в виде воображаемого диалога Ленина и Сталина, из которого следовало напутствие Троцкому перед последним выездом в Брест:
Ленин: Троцкий — за эдакую интернациональную политическую демонстрацию! Демонстрация — неплохая вещь, но надо знать, чем жертвовать ради демонстрации. Мы же собираемся жертвовать нашей революцией! Ни мира, ни войны — и немцы вцепятся нам в горло, потому что у нас нет сил для защиты. А у них стоят на линии фронта 29 дивизий, вполне готовых перейти в наступление!
Сталин: То, что германский пролетариат ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным восстанием, — это всего лишь предположение. А то, что германский штаб ответит на нее немедленным наступлением по всему фронту — несомненный факт.
Ленин: А наши любители «революционной фразы»? «Левые» размахивают картонным мечом, как взбесившиеся буржуа: «революционная война»! Через какую-нибудь неделю наша крестьянская армия, невыносимо надломленная войной, после первых же поражений свергнет социалистическое правительство. И мир всё равно придется заключать, но это будем делать уже не мы, а какие-нибудь эсеры-черновцы вкупе с Центральной радой!
Сталин: Война с немцами — это то, что входит в расчеты империалистов. Антанта — само собой. Англичане прямо предлагали по сто рублей за каждого нашего солдата. С костями, с мясом. Право же, Чичиков и то за душу больше давал. Даже за мёртвую!
Ленин: Если мы заключаем мир — а я другого выхода не вижу — то мы в наибольшей возможной степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну. Используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления нашей революции. Для спасения революции и три миллиарда Гофмана — не слишком большая цена.
Сталин: К тому же, обменявшись пленными, мы перебросим в Германию громадную массу людей, видевших революцию на практике. Это неплохой довесок, который может перевесить всю контрибуцию!
Ленин: Состояние переговоров в Бресте таково, что Германия по сути дела уже поставила России ультиматум, и со дня на день следует ждать его формального предъявления. Поэтому: не тот принцип должен теперь лежать в основе нашей тактики, которому из двух империализмов выгоднее помочь теперь, а тот принцип, как вернее и надёжнее обеспечить социалистической революции укрепиться или хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие страны. Мир — это никакой не союз с «дружественным империализмом», а единственная возможность спасения нашей революции. Реорганизация России на основе диктатуры пролетариата экономически вполне возможна, при условии хотя бы нескольких месяцев мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России, и во всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-крестьянской Красной Армии!
Сталин: Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, но для проведения их нам нужно время. Если не заключить мира, то немцы смогут наступать, а это усилит у нас контрреволюцию. Этого только и ждет корниловская и калединская «гвардия».
Последнее заседание ЦК перед выездом делегации снова не дало большинства Ленину. Объединенные усилия троцкистов и бухаринцев заблокировали его точку зрения. Троцкий, успев за время пребывания в Петрограде встретиться с представителями Антанты и США Садулем и Робинсом, окончательно убедился, что никакой помощи от Антанты ждать не приходится. Садуль в своих воспоминаниях отмечал: «У большевиков нет необходимых военных специалистов, и только в случае направления союзниками, особенно Францией, высоко технически оснащенных военных миссий можно рассчитывать на то, что в результате всех преобразований будут созданы действительно боеспособные вооруженные силы… Большевики знают это; Ленин и особенно Троцкий… готовы пойти на неизбежное для них сотрудничество с нами, поскольку в противном случае им просто придется принять условия победителя и подписать мир, унизительный для России и гибельный для революции».[40]
Вот уж точно, как впоследствии скажет Ленин уже в 1922 г.: «Если у большевиков дважды два — пять, то у буржуев дважды два — стеариновая свечка»! Да, подписать мир — унизительно для России, но не гибельно для революции. Как раз гибельно — не подписать его! А что до военных специалистов — проблема вовсе не в том, что их нет у России. Их у России вполне достаточно. Проблема в том, что военные специалисты, служившие России царской, теперь должны служить России революционной, и эта перестройка ориентации, перестройка всего мировоззрения требует времени и сил. Огромных сил. Но — уже есть великий полководец генерал Брусилов, заявивший о своей лояльности к новой власти, уже есть великий стратег и мыслитель генерал Игнатьев, военный атташе России во Франции, записавший в дневнике: «Царский режим пал, но Россия жива и будет жить…Да прольёт революция хоть немного света на мою тёмную родину. Я буду служить ей столь же самоотверженно, как служил и до сих пор. Я обязан всем, решительно всем, русскому народу. Пусть он отныне и будет моим единственным повелителем!»[41]
Два великих тезки, два Алексея Алексеевича обозначили путь для 80% офицеров Генерального штаба, для 55% всего офицерского корпуса царской армии, для всех, для кого слова «честь офицера» и «честь России» были одним целым.
Троцкий, не будучи удовлетворён результатами встреч с Садулем и Робинсом, попытался оказать на союзников (правда, теперь это слово явно требовалось брать в кавычки — уже обозначился факт, о котором было упомянуто выше: Антанта безмолвствовала, но не бездействовала, ещё с ноября строя планы военной интервенции против революционной России) косвенное давление. Выступая накануне отъезда в Брест-Литовск на открывшемся 10 (23) января III Всероссийском съезде Советов, он заявил, указывая на висевшую перед делегатами карту Гофмана с проведённой его сапогом демаркационной линией: «Лондон дал молчаливое согласие на условия, выдвинутые Гофманом и Кюльманом. Англия готова пойти на компромисс с Германией за счет России. Условия мира, предложенные нам Германией, являются также мирными условиями и Америки, Франции и Англии; это счета, предъявленные русской революции империалистами всего мира… Но Центральные державы не смогут нас запугать угрозой наступления, потому что они не уверены, что германские солдаты выполнят такой приказ… Если германские империалисты попытаются сокрушить нас своей военной машиной… мы обратимся к нашим братьям на Западе: «Вы слышите нас? — и они ответят: «Да, слышим!».[42]
Ленин, сидя в президиуме съезда и наблюдая энтузиазм делегатов, слушавших вдохновенную речь Троцкого, переглядывался со Сталиным, который сохранял видимое спокойствие. Оба они знали о раскладе голосов в ЦК, о позиции эсеров и меньшевиков, распинавшихся о беспомощности большевистского правительства, «предающего интересы отечества», об окончательной рекомендации Троцкому, одобренной (наконец-то, после стольких бессонных ночей, проведенных в яростной полемике) большинством ЦК: тянуть переговоры до официального объявления немцами ультиматума, и немедленно подписывать мир в этом последнем случае. В свете этого решения ЦК вся блистательная речь Троцкого на съезде смотрелась пустой болтовней.
В Берлине и Вене накал полемики не уступал петроградскому. Кюльман вкупе с канцлером Гертлингом усиленно прощупывали позицию стран Антанты и США и, подобно Троцкому, убедились в том, что Антанта не собирается принимать никакого участия в переговорах и снимает с себя всякую ответственность в отношении России. Кюльману снова пришлось выслушать энергичные нападки как правых, так и левых: левые обвиняли его в макиавеллизме и лицемерии, а правые — в отсутствии должной твёрдости и принципиальности.
Но вопли из рейхстага не очень волновали прожжённого дипломата. Вот беседа с Гинденбургом и Людендорфом, проходившая за закрытыми дверями, была существенно более «конструктивной».
Людендорф прямо заявил, что ситуация в Бресте подрывает позиции Германии как внутри страны, так и за рубежом. То, с какой безропотностью Кюльман позволил Троцкому вести себя столь нагло и вызывающе, может привести страны Антанты к мысли о том, что Германия чуть ли не «бегает» за большевиками, умоляя их заключить мир. Если Кюльман позволяет так относиться к себе какому-то безоружному анархисту, нахально ведущему откровенную пропаганду против Германии и германской армии, то как он собирается о чем-то договариваться с Клемансо и Ллойд-Джорджем?
Невозможно удержаться от комментария: герру Людендорфу явно было удобно прикидываться идиотом и делать вид, что он не замечает разницы между анархистами и большевиками. А что касается пропаганды, то и Гофман со своими сапогами не смог возразить Троцкому, когда тот сообщил о свободном допуске германских газет в Россию, даже (смех в зале) разделяющих мнение генерала Гофмана. Почти что по Маяковскому:
Верчусь —
аж дыру провертел в сапоге я —
не могу найти никакого Апогея!
Конечно, не составляет особого труда наезжать на Кюльмана в Берлине, но мы помним, что когда Кюльман предложил Людендорфу самому поехать в Брест вместо Гофмана, то бравый генерал-квартирмейстер отказался: «он там может только напортить».
Ввиду громогласности Людендорфа пробудился и Гинденбург, которому, как видно, причинило немалый дискомфорт столь несвоевременное пробуждение. Он потребовал, чтобы ситуация на Востоке была прояснена как можно быстрее, даже если для этого потребуется применение военной силы. Ведь пока мир не заключен, на Восточном фронте приходится держать дивизии, которые можно было бы использовать на Западном фронте. Хватит проявлять колебания и нерешительность! Если русские и дальше будут тянуть время, следует возобновить военные действия. Это приведет к падению правительства большевиков, а новое правительство будет ещё больше стремиться к заключению мира.
Добавим: а фельдмаршал в этом случае сможет исключительно сладко выспаться и не слушать у себя над ухом громогласные тирады Людендорфа. Если к тому же присовокупить явную тупость Гинденбурга, никак не желающего понять довольно элементарную вещь: войска, занятые в России, в случае возобновления военных действий никак не смогут быть переброшены на Запад, а надежды на «блицкриг» против России, уже провалившиеся и в 1914, и в 1915, и особенно в 1916 годах, можно признать вовсе уж бестолковыми в 1918 г., то вывод однозначен. Именно, «семейный союз» двух генеральных солдафонов никак не смог дорасти до заветов Отто фон Бисмарка: «Даже если вы дойдете до Урала, я не уверен, что вы сможете дотащить обратно до Берлина свой мешок с костями!»
Кюльман, впрочем, не дал так просто сбить себя с позиций, которые он считал необходимым занимать на переговорах. Он отверг ультимативные требования Гинденбурга с Людендорфом и после длительных дебатов добился-таки решения продолжать переговоры, не выдвигая «от порога» захватнических ультиматумов. Главным аргументом, который заставил солдафонский «дуумвират» прислушаться к мнению Кюльмана, был украинский: перспектива введения войск на Украину в соответствии с договоренностью с Радой должна заставить Троцкого прекратить затягивание переговоров и пойти на заключение мира, не слишком явно выражающего захватническую политику, проводимую Верховным командованием. В противовес мнению Гинденбурга и Людендорфа, Кюльман считал, что такой мир не ослабит, а, напротив, укрепит позиции Германии при ведении переговоров с Антантой. Но он весьма дальновидно согласился на компромисс: Гинденбург и Людендорф не мешают ему договариваться на Востоке, а он не вмешивается в переговоры на Западе, буде они начнутся. Наверняка про себя Кюльман при этом думал: все равно эти дубинноголовые солдафоны не смогут без меня обойтись, беседуя с акулами дипломатии Англии и Франции.
Не менее острыми были дискуссии и в Вене. Угроза голода в стране и армии усугублялась разногласиями между правительствами Австрии и Венгрии. На заседании Совета Короны под председательством императора Карла решались два вопроса: 1) следует ли продолжать переговоры с Украиной на основе, уже созданной Гофманом? Это сулит спасение от голода, но грозит территориальными потерями; 2) следует ли подписать сепаратный мир с Россией отдельно от Германии, если созданный Кюльманом и Троцким тупик в переговорах по прежнему будет сохраняться? Это грозит разрывом или крайним ухудшением отношений с Германией с непредсказуемыми последствиями.
После долгих и нервных дебатов Чернину всё же удалось добиться от императора высочайшего согласия на оба ответа в своем духе: можно как продолжать договариваться с Украиной, так и подписывать сепаратный мир с Россией. Иначе говоря, Чернин получал полную свободу действий, но и обязался полностью отвечать за последствия. Не успел он вздохнуть с некоторым облегчением, как новое известие из Бреста буквально сшибло его с ног: правительство Советской Украины, располагавшееся в Харькове, заявило о низложении киевской Рады, председатель Рады Винниченко подал в отставку, а харьковское правительство направило в Брест двух своих представителей для участия в переговорах с Центральными державами. Соглашение, заключенное с Радой, не могло больше рассматриваться как соглашение с Украиной. А представители Советской Украины заявили, что они являются членами советской делегации совместно с Советской Россией. Для Чернина наступили сплошные бессонные ночи. Состояние, в котором он направлялся в Брест, было близким к невменяемости.
Конференция вновь открылась 17 (30) января. Обстановка на переговорах вновь претерпела изменения в сторону обострения. Уже никто и не думал воспроизводить ту атмосферу дружелюбия и неформальности, которая воцарилась при Иоффе, а ведь прошло всего чуть больше месяца с 15 (28) декабря! За это время история успела так широко шагнуть, что существенно изменилась обстановка не только в России, но и во всем мире.
Забастовки и протестные выступления в Германии и Австрии, охватившие более полумиллиона человек, создание Советов народных депутатов в Берлине и Вене, демонстрации под лозунгами «Вся власть Советам» на улицах Берлина, требования участия представителей рабочих всех стран в брестских переговорах — Европа была «беременна революцией», по образному выражению Ленина. Но он же предостерегал троцкистов и бухаринцев от излишней эйфории и «подталкивания» революции в Германии: «Не следует путать второй месяц с девятым! А у нас в России уже родился вполне здоровый ребёнок, и его надо спасти во что бы то ни стало!». Сталин добавлял к этому старинную восточную мудрость, приписываемую легендарному Ходже Насреддину: «Даже если собрать вместе девять беременных женщин, ребёнок все равно не родится через месяц!».
Ленин и Сталин оказались правы: забастовки и выступления в Германии были подавлены безжалостно и очень быстро: уж здесь-то господа «ГЛГ» были профессионалами самого высокого класса. Забастовки во время войны приравнивались к государственной измене, города, где проходили выступления, объявлялись на осадном положении, рабочие газеты были запрещены, а рабочие собрания разгонялись полицией с предельной решительностью. Людендорф в связи с этими событиями направил письмо военному министру с требованием немедленно призвать в армию всех рабочих-резервистов, взять под прямой военный контроль крупнейшие концерны, выпускающие стратегическую продукцию, и отдал секретный приказ каждому командующему армией держать наготове не менее двух батальонов для использования против гражданского населения.
Ну чем не генерал-губернатор Москвы адмирал Дубасов в 1905 году, «по крови рабочей пустившийся в плавание» в России? Для насилий над собственным народом у имперских режимов возможностей было ещё вполне достаточно. Второй месяц не следует путать с девятым, особенно при наличии таких «институтов планирования семьи», как «триумвират ГЛГ».
Троцкий представил приехавших с ним председателя ЦИК Украинской Советской республики Е. Медведева и членов Секретариата М. Старицкого и В. Шахрая. Они были представлены как полноправные члены советской делегации и, как особо подчеркнул Троцкий, теперь только они имели право говорить от имени всего украинского народа. Он подтвердил информацию, переданную из Бреста по поводу низложения Рады и заявил, что любые соглашения, заключенные с киевскими представителями, не будут рассматриваться как соглашения с Украиной.
Эх, Лев Давидович, «и прекрасны Вы некстати, и умны Вы невпопад!»
Кюльман немедленно напомнил Троцкому, что полномочность представителей Рады была им признана на предыдущем туре переговоров, и германской стороной уже выработаны условия мира для этого региона.
Троцкий зачитал телеграмму от командующего советскими войсками на Украине, в которой сообщалось, что войска Киевского гарнизона перешли на сторону советской власти, и Рада больше не существует не только в политическом, но и в военном смысле.
Кюльман, подталкиваемый под столом сапогом Гофмана, предложил сделать перерыв в заседаниях до прибытия делегации Рады, поскольку необходимо скорректировать позицию Центральных держав с учетом вновь открывшихся обстоятельств.
На Чернине буквально лица не было. За все шесть недель переговоров впервые перерыв понадобился не России, а Германии и Австро-Венгрии! Вся хитроумная дипломатическая постройка, с такими неимоверными усилиями возведенная Кюльманом и Черниным, грозила рассыпаться в прах. Куда там министерские кресла! Речь шла о судьбе империй Габсбургов и Гогенцоллернов.
21 января (3 февраля) Кюльман и Чернин выехали в Берлин. Туда же в экстренном порядке прибыл из Крейцнаха Людендорф. На совместном совещании дипломатов и союзного верховного командования, проходившего в весьма нервозной обстановке, было решено подписать мирный договор с Радой как с полноправным представителем Украины. Чернин обреченно вопрошал: «Ну как же мы будем подписывать договор с несуществующим правительством?» При этом над ним постоянно висел страшный призрак голода во всей Австро-Венгрии, к тому же он не видел возможности залатать политические дыры в отношениях с Польшей: как улаживать проблемы Галиции, Буковины и Холмщины после подписания договора с «мёртвыми душами»? Кюльман помалкивал, поскольку видел, что господа «ГЛГ» откровенно выбросили все дипломатические правила на помойку, и нужно искать совсем другие средства и методы для работы. Людендорф по поводу «мёртвых душ» небрежно бросил Чернину что-то вроде «это не Ваша забота», а Кюльману предъявил от имени кайзера требование немедленного подписания мирного договора с Украиной, а после этого в течение 24 часов предъявления ультиматума России. Кюльман осторожно поинтересовался, с кем же подписывать договор, если представителей Рады нет в Бресте, но Людендорф и ему в самой резкой форме заявил, что это не его забота. Кюльман понял, что присутствие «универсальных дипломатов» несуществующего государства поручено обеспечить Гофману, и дал соответствующее обещание ненавистному «ГЛГ», который на сей раз был представлен одним Людендорфом.
Гофман не случайно остался в Бресте. Попадание на конференцию представителей Рады на этот раз было сопряжено с немалыми трудностями. Проникнуть в Брест им удалось, только прибегнув к откровенному обману: убедив красногвардейцев, что они составляют часть советской делегации. Председатель делегации Голубович так и не смог просочиться через красногвардейские заслоны, поэтому в Бресте появились только двое молодых людей, разряженных в синие свитки и смушковые шапки — Любинский и Севрюк. Они церемонно предъявили немцам свои мандаты полномочных представителей Центральной рады, и на следующем заседании, открывшемся 25 января (7 февраля), где председательствовал Чернин, была сделана попытка стравить между собой российскую делегацию и обе украинских. Конечно же, Чернин дал слово Севрюку, который выступал как руководитель делегации Рады и снова крикливо подчеркнул полную независимость своего государства от Советской России. Этот тезис был яростно отвергнут Троцким и Медведевым, который от имени Советской Украины заявил, что если Рада хоть кого-то и представляет, то только помещиков и часть продажной интеллигенции Украины, стремящихся сохранить свои привилегии. Чернин снова дал слово на этот раз Любинскому, который в своей часовой речи не только превзошел сапожные выступления Гофмана, но вообще уподобился площадному пьяному хулигану, провоцирующему массовую драку. Чернин, Кюльман и особенно Гофман внимательно наблюдали при этом за реакцией Троцкого, который побледнел, как мел, нервно рисовал что-то на листке бумаги и лихорадочно размышлял, как ему вести себя дальше. По словам самого Троцкого, его поразило неистовое самоуничижение «со стороны тех, кто, в конце концов, представлял выборный орган революции; причем самоуничижение перед надменными аристократами, которые ничего, кроме презрения, к ним не испытывали…это была одна их самых отвратительных сцен, которую мне когда-либо приходилось видеть».[43] Хорошо ещё, что «речь» Любинского была достаточно длинной, поэтому Троцкий к концу её сумел взять себя в руки и в обычной ядовито-ироничной манере поблагодарил председательствующего за то, что он «дал возможность свободно и до конца высказаться предыдущему оратору, а также осуществить переводчику точный перевод всего сказанного, хотя и с некоторым смягчением выражений».[44]
Надо представить, чего стоило Троцкому с его темпераментом и высокомерием, ничуть не меньшим, чем у «надменных аристократов», выслушивать не только часовую брань Любинского, но и столь же продолжительный её перевод, учитывая, что он прекрасно понимал все, что сказано и по-украински, и по-немецки.
Троцкий вслед за «благодарностью» в адрес председательствующего добавил, что делегация Рады является делегацией без правительства и представляет территорию, не превышающую площадь тех комнат, которые она занимает в Брест-Литовске. Это прекрасно понимали и представители противной стороны, однако это не помешало Чернину, закрывая заседание, объявить от имени Центральных держав, что они немедленно и незамедлительно признают Украинскую Народную Республику (Раду) в качестве независимого, свободного и суверенного государства, которое имеет право независимо и самостоятельно заключать международные соглашения.
Это был грубый и откровенный плевок в физиономию нашей делегации, и у Троцкого не осталось больше сомнений в том, что в кармане у Кюльмана (или Гофмана, что в данном случае не имеет значения) уже лежит заготовленный текст ультиматума, который будет предъявлен немедленно после подписания мирного договора с представителями Рады как «независимого, свободного и суверенного государства», существующего только в представлении господ «ГЛГ» и кайзера.
Вечером того же дня по поручению Чернина Троцкого посетил сотрудник австрийского МИДа доктор Рихард Шуллер, который постарался дать понять, что Чернин далеко не во всем одобряет ультимативную позицию Германии, что его заявление насчет Рады было вынужденной демонстрацией и что он готов предложить компромиссное решение проблемы самоопределения, устраняющее возможность предъявления ультиматума. Вкрадчивым тоном Шуллер пояснил, что ультиматума можно избежать, если российская сторона не будет занимать столь непримиримую позицию, какая была обозначена Троцким и Медведевым на прошедшем заседании. Троцкий, к которому вполне вернулось самообладание, но, будучи нисколько не расположен к доверительной беседе, ответил, что обращение явно не по адресу, поскольку непримиримую позицию занимает как раз Кюльман, который на протяжении всего обсуждения пытается подвести теоретическую базу под то, чтобы реальные аннексии таковыми не называть. Шуллер (фамилия весьма соответствует роду деятельности!), изображая предельную деликатность и обходительность, заметил, что Троцкий сам гораздо больше внимания уделял принципиальному решению тех или иных вопросов, нежели формулировкам. На это Троцкий в излюбленной им манере выдал, что любые согласованные теперь условия, как и сам договор, будут лишь временными, а окончательно вопрос решится только тогда, когда произойдет мировая революция. Шуллер захлопал глазами, явно не зная, что на это сказать, а Троцкий добавил: «Я мог бы подписать мир, по которому права России будут грубо нарушены, но в этом случае противная сторона должна четко указать, что как раз в этом и состоит ее намерение. Вы не можете просить нас морально поддержать и одобрить грубое насилие»[45].
Шуллер явно не зря носил свою фамилию: «Граф Чернин мог бы рассмотреть этот подход в качестве основы для переговоров».
Троцкий только презрительно фыркнул в ответ: «Ваш граф Чернин целиком и полностью является тайной пружиной германской политики!»
«И тем не менее он искренне стремится к миру, причем миру без аннексий».
На этом господин Шуллер откланялся, чтобы на следующее утро, еще до начала заседания, сообщить Чернину, что Троцкий в принципе согласен обсуждать компромиссный вариант мира, сохраняющий практически все условия Германии, но с добавкой об ответственности Центральных держав за возможные последствия грубого нарушения международных прав России. Чернин при открытии заседания сообщил об этом Кюльману. Кюльман внимательно выслушал и отнёсся к предложению Чернина с одобрением, но вмешался Гофман. На столе опять возник контур его сапога: никаких дальнейших затяжек переговоров быть не может, нужно незамедлительно предъявлять ультиматум.
В действительности Гофман специально изображал «суперсолдафона», чтобы отвлечь внимание от лихорадочно подготавливаемого за спиной российской делегации мирного договора с украинской Радой. Что же до Чернина, то его стремление всё-таки избежать ультимативного решения вопроса было продиктовано тем, что как раз в это время его представитель Скржинский вел переговоры в Берне с английским министром сэром Горасом Рамбольдом об организации секретной встречи Чернина с премьером Ллойд Джорджем, во время которой планировалось заложить основу для достижения всеобщего «мира без аннексий». Чернина весьма соблазнило недавнее выступление Ллойд Джорджа (23 декабря 1917 г.), в котором тот заявил, что разгром и уничтожение Австро-Венгрии не являются стратегической целью Антанты. Забегая вперед, эта встреча не состоялась как раз по причине «неправильного» заключения Брестского мира.
На следующий день после заседания Троцкого посетил уже сам Чернин в сопровождении своего секретаря доктора Граца. Он прямо предложил свое посредничество между Россией и Германией. Троцкий в ответ заявил, что он не так глуп, как им кажется, и прекрасно понимает, что никакое посредничество не может помешать Германии оккупировать восточные области. Россия, сказал Троцкий, может подчиниться силе, но не софистике. Пусть немцы откровенно заявят о своих истинных намерениях, как это сделал 4 января Гофман в своей «сапожной» речи, и тогда после подписания договора Троцкий открыто обратится к мировому общественному мнению с протестом против грубого разбоя.
Чернин задумался. Наверняка ему сейчас представлялась возможная встреча с Ллойд Джорджем. Что он будет говорить одному из наиболее искушенных дипломатов Запада, если у того перед встречей на столе будет лежать кипа газет с протестами против грубых нарушений международного права со стороны Центрального союза, т.е. и Австро-Венгрии в том числе?
Вмешался доктор Грац: «Было бы возможным вообще не касаться этой темы в тексте договора. Следует просто сказать, что будут осуществлены такие-то и такие-то территориальные изменения. Вы сможете в этом случае квалифицировать эти изменения как аннексии, а немцы смогут сказать, что это результат реализации права населения этих территорий на самоопределение».
Здесь уже задумался Троцкий. В свете того, что он говорил вчера Шуллеру, вполне можно относиться к подобным инсинуациям как к временному явлению. Ведь революция в Германии — вопрос ближайшего будущего, а тогда весь договор станет пипифаксом.
«Мне кажется, так можно сделать».
Чернин перевел дух: лёд, похоже, тронулся. Он с воодушевлением предложил обсудить практические детали, и беседа затянулась допоздна. Разговор шел вокруг «линии Гофмана», которую Троцкий усиленно двигал на запад, пытаясь отвоевывать то Моонзундские острова, то Ригу, то границу с Литвой. Наконец, он решительно заявил, что любой вариант мира может быть подписан только при условии отсутствия сепаратного договора с Украиной. Чернин ответил на это уклончиво — ведь он знал, что как раз в это время Гофман утрясает последние детали договора с Севрюком и Любинским. На этом встреча закончилась.
Следующее утро 27 января (9 февраля) «ознаменовалось» сообщением Чернина о подписании мира с Украинской радой. Наверно, Троцкий превратил бы Чернина в кучку пепла, если бы обладал огнедышащим даром. Разводя турусы на колесах о компромиссе, его всё-таки провели, как мальчишку! Стараясь не глядеть на Троцкого, Чернин что есть сил произносил заверения о том, что договор с Украиной не является недружелюбным актом по отношению с Советской России. Надо ли говорить, что эти заверения были образцом лицемерия! Два вечера подряд Троцкому «пудрили мозги» и все-таки за его спиной «состряпали» пресловутый сепаратный мир с «мёртвыми душами», причем подписали его в ночь с 26 на 27 января!
В тот же день, 27 января, Людендорф, которому Гофман сообщил о подписании мира с Украиной, громогласно потребовал у Кюльмана выполнить данное в Крейцнахе обязательство о немедленном предъявлении Троцкому 24-часового ультиматума. Кюльман, помня о своих никудышных отношениях с верховным командованием, был готов проигнорировать это распоряжение, ибо прекрасно понимал, какая будет реакция в мире, если он выполнит то, что требует Людендорф. Все происходящее в Бресте и так уже серьёзно подорвало престиж Германии в глазах нейтральных стран, и к тому же как раз в это время Антанта, наконец, прервала молчание по поводу брестских переговоров. Верховный военный совет стран Антанты сделал заявление, в котором подчеркивался «контраст между провозглашенными, основанными на высоких идеалах, целями Центральных держав, с которыми они начинали переговоры в Брест-Литовске, и нынешними открыто озвученными планами захватов и грабежей».[46]
Но Людендорф тоже понимал, что апеллировать только к различиям во взглядах на жизнь между Кюльманом и «ГЛГ» явно недостаточно — ведь есть ещё и кайзер, который доселе внимательно прислушивался к мнению Кюльмана и постоянно «прикрывал» его от гнева «триумвирата». Следовательно, надо убрать эту «крышу», и тогда Кюльман станет «шелковым». Поэтому на стол кайзера руками Гинденбурга легла якобы перехваченная военными связистами в Кёнигсберге радиотелеграмма из Царского села, призывавшая солдат германской армии поднять мятеж, убить кайзера, генералов Верховного командования и офицеров своих частей, а затем заключить мир с большевиками.
Была ли такая радиотелеграмма в действительности, или же Людендорф состряпал фальшивку (а это ничего не стоило сделать), сегодня проверить крайне затруднительно. Уилер-Беннет вполне в духе своей буржуазной «объективности» уверен, что «Смольный находился в заблуждении относительно ослеплявших его перспектив революции в Центральной Европе и поэтому счел, что психологический момент для подобного призыва наступил».[47] Но считать Ленина и Сталина идиотами, только что давшими инструкцию Троцкому о подписании мира по предъявлении ультиматума на любых условиях и вместе с тем посылающими провокационную радиотелеграмму — означает расписываться в собственном полном идиотизме. Можно, конечно предположить подобную глупость со стороны «левых коммунистов», но самый выдающийся и самый глупый «левак» — Радек — находился в это время в Бресте и крайне раздражал Гофмана своими совсем не дипломатическими выходками, а Бухарин и Ко всё-таки не были способны на такое, тем более, что решение о подписании мира по-ленински было принято ЦК. При здравом размышлении всё же представляется более вероятным, что Людендорф подсунул Гинденбургу и кайзеру фальшивку, прекрасно зная высочайшие имперские амбиции и одновременно рассчитывая на элементарную трусость Вильгельма II, буде августейшая персона узнает о попытке покушения на свою драгоценную жизнь.
Расчёт Людендорфа и Гинденбурга оправдался вполне: кайзер пришел в неописуемую ярость и направил Кюльману телеграмму уже от своего имени с категорическим требованием выдвинуть Троцкому в течение 24 часов ультиматум, требующий отказаться от Курляндии, Литвы, Лифляндии и Эстляндии, то есть телеграмма кайзера сдвигала «линию Гофмана» ещё дальше на восток.
Кюльман, однако, даже при получении этой телеграммы не впал в истерику. Он знал, что Троцкий направил адмирала Альтфатера узнать, возможно ли оставить России Ригу и Моонзундские острова. Он знал, что заявление Антанты является реакцией на претензии Германии только на Курляндию и Литву, что же будет, если сюда прибавится ещё и Лифляндия с Эстляндией? Да и договор с Радой со всеми его секретными приложениями никак не делает чести дипломатии Кюльмана и Чернина. Следовательно, несмотря на все окрики «сверху» и «сбоку», возможность соглашения с Россией ещё не потеряна. И Кюльман отправил ответ на телеграмму кайзера, в котором мягко, но решительно утверждал, что сейчас крайне неподходящий момент для предъявления ультиматума со столь коротким сроком. Если его величество всё же настаивает на немедленном и краткосрочном ультиматуме, то Кюльман просит назначить на его место другого министра иностранных дел. Кюльман добавил, что будет ждать высочайшего ответа до 16.30 текущего дня (27 января), а если ответа не последует, то это будет означать, что указание кайзера отменено.[48]
Пока Кюльман ждал решения своей судьбы, Троцкий тоже находился в весьма напряженном ожидании. После подлого объявления о подписании мира между Четверным союзом и Радой он телеграфировал в Петроград: «Как быть?». Ответ по прямому проводу гласил: «Наша точка зрения Вам известна. Ленин. Сталин».
Вся делегация собралась под дверями, ожидая появления Троцкого с ответом из Петрограда. Троцкий с непроницаемым видом вышел на крыльцо, долго и аккуратно застёгивал пальто, затем оглядел всех, затягивая паузу, и, наконец, объявил: «Центральный Комитет стоит на моей точке зрения!»
Тем временем высочайшая телеграмма на имя Кюльмана так и не поступила, что означало признание разумности его точки зрения. «Верховные солдафоны» опять промахнулись, и Кюльман сумел сохранить свободу маневра. Он направил к Троцкому своего представителя фон Розенберга с предложением обсудить возможность оставления за Советской Россией Риги и Моонзундских островов. Троцкий, ожидающий с минуты на минуту предъявления ультиматума, по всей видимости, расценил это как издевательство и в резкой форме ответил отказом. Кюльман, рассчитывавший на положительную реакцию Троцкого как аргумент в схватке с «ГЛГ» (ведь он только что играл «ва-банк» и понимал, что игра вовсе не кончена), вздохнул и пришел к заключению, что он в очередной раз нарвался на ярость «триумвирата» и кайзера зря. Придется всё-таки согласиться с их точкой зрения и предъявить ультиматум, хотя ничего хорошего для Германии в таком исходе переговоров Кюльман не видел. Получилось, что Троцкий сам подтолкнул противника на крайние меры, хотя, конечно, неудачный визит Розенберга явился всего лишь той самой соломинкой, которая ломает спину верблюду.
Следующее утро 28 января (10 февраля) обозначило последний день в работе Брест-Литовской мирной конференции.
Заседание открыл Кюльман. В кармане у него лежала вчерашняя яростная телеграмма от кайзера с требованием предъявления ультиматума, но он начал с резких нападок на большевиков за призывы германской армии к мятежу и убийству кайзера, генералов и офицеров. Троцкий, фактически перехватив слово, не менее резко ответил, что ему о подобном призыве ничего не известно. Затем, приняв торжественный вид и объявив, что «пришло время решений», он произнёс речь, в которой сначала заклеймил агрессивные происки империализма, затем произнёс: «Мы отзываем наши армии и наш народ с войны. Наши солдаты-крестьяне вернутся домой и будут мирно возделывать землю, которую революция дала им, отобрав у помещиков. Наши солдаты-рабочие вернутся на фабрики и заводы, чтобы трудиться не для разрушения, а для созидания. Мы выходим из войны. Мы сообщаем об этом народам и правительствам всех стран… В то же время мы заявляем, что условия мира, предъявленные нам правительствами Германии и Австро-Венгрии, принципиально противоречат интересам всех народов… Мы не можем поставить подпись от имени русской революции под этими условиями, которые несут горе, гнёт и несчастье миллионам человеческих существ… Мы выходим из войны, но мы чувствуем себя обязанными отказаться подписать мирный договор.»[49]
Начало выступления Троцкого делегаты Центральных держав слушали с видимым удовлетворением. По всей логике вещей за этим должно было следовать согласие на подписание мира. Кюльман уже облегчённо вздохнул: похоже, телеграмма кайзера так и останется лежать в кармане, выдвигать ультиматум не придётся. Однако по мере того, как Троцкий переходил от обличительной части речи к политической и смысл его выступления оказался прямо противоположным, настроение всех присутствующих (а в зале собралось более 40 человек) радикально поменялось. Впечатление оказалось столь сильным, что в зале воцарилась полная тишина. Все были просто ошарашены и не могли понять, что же означает формула Троцкого. Молчание было прервано возмущённой репликой Гофмана: «Неслыханно!». Кюльман пытался что-то сказать о необходимости проведения пленарного заседания, но Троцкий отказался, громогласно объявив, что обсуждать больше нечего. После этого все члены советской делегации дружно покинули зал. Этим же вечером они уехали в Петроград.
После ухода из зала советской делегации Кюльман выглядел наиболее подавленным из всех присутствующих. Что делать дальше — этот вопрос мучительно выставился перед каждым, но, пожалуй, один Кюльман с его проницательным и дальновидным умом дипломата понимал, что Германия при любом решении вопроса имеет мрачные перспективы. Троцкий, выйдя из перемирия и не подписав мира, открыл дорогу для «ГЛГ» окончательно взять под контроль всю германскую политику и практически голыми руками получить то, что им было нужно от России. Кюльман, будучи уверен, что ставка на грубую силу гибельна для Германии, не видел теперь возможности заключения мира на приемлемых условиях как на Западе, так и на Востоке. Да, «триумвират», без сомнения, увидит в «формуле Троцкого» продолжение войны на Востоке. Это значит, что все войска Восточного фронта по уши завязнут в русских просторах, и о победе на Западе мечтать уже не придётся. А отсюда следует, что и на Западе мира на приемлемых условиях заключить уже не удастся.
Все эти мысли промелькнули в голове у Кюльмана, прежде чем удалось собрать совещание оставшихся германских и австрийских дипломатов у него на квартире после закрытия конференции. Настроение у всех собравшихся было всё ещё подавленное после впечатления от речи Троцкого. Тем не менее практически все пришли к выводу: следует считать, что установлен мир, который, несмотря на почти что театральный уход российской делегации с конференции, надо как-то оформить в соответствии с международным правом и дипломатической практикой. Видя общее настроение, Кюльман несколько приободрился, а Чернин и вообще пришёл в прекрасное расположение духа — впервые за всё то время, которое прошло с момента получения им сообщения о низложении украинской Рады. Он уже забыл, сколько ночей он не спал — а тут появилась возможность наконец-то нормально выспаться. В самом деле, все оккупированные территории остаются у немцев, поставки продовольствия с Украины гарантируются, значит, и воевать больше не за что.
Единственный, кто не разделял этой «мирной расслабленности», был Гофман. Он немедленно после ухода российской делегации связался по телефону с Крейцнахом и обсудил ситуацию с Верховным командованием в лице Людендорфа. Поэтому, услышав от дипломатов, будто бы «воевать больше не за что», он побагровел от возмущения и снова выставил на стол свой пресловутый сапог: «Одним из важнейших пунктов соглашения о перемирии, подписанного 5 декабря, является то, что оно направлено на заключение мирного договора и действует в течение всего времени переговоров. Поскольку мир не был заключен, а переговоры прерваны, то это значит, что предмет соглашения о перемирии отсутствует, и само соглашение о перемирии автоматически теряет силу. В итоге военные действия должны возобновиться по истечении семи дней».
Да, именно это и заботило Кюльмана больше всего. Он не сомневался, что рядом с сапогом Гофмана топают по столу также сапоги Гинденбурга и Людендорфа, а вместе с ними — и самого кайзера. Последовавшая за выступлением Гофмана ожесточённая дискуссия, где вроде бы генерал выступал «один против всех», ничего по сути не изменила. Кюльман, не теряя надежды убедить-таки кайзера, что из формулы Троцкого можно сделать «мирный» вывод, официально закрыл 29 января конференцию и отбыл в Берлин.
В это время кайзер находился в Гамбурге на отдыхе и лечении. Туда съехались в экстренном порядке все заинтересованные лица : Гинденбург, Людендорф, Кюльман, канцлер Гертлинг, вице-канцлер фон Пайер, начальник главного морского штаба.
31 января состоялось совещание, на котором «один против всех» оказался уже Кюльман. Людендорф с невиданной силой обрушился на него, требуя у канцлера немедленно отправить Кюльмана в отставку. Вильгельм II по обыкновению «витал» над дебатами, то внимая, то погружаясь в размышления. Это, впрочем, не очень смущало Людендорфа, который упорно «гнул свою линию»: «Для прояснения ситуации на Востоке необходимо нанести короткий, но исключительно мощный удар по остаткам русских войск. Этот удар позволил бы нам захватить большое количество военного снаряжения. Но главное — необходимо создать санитарный кордон между тевтонскими народами Восточной Европы и большевистской Россией. Для этого надо занять всю Лифляндию и Эстляндию и отрезать Петроград. Необходим также хлеб с Украины, ради чего и подписывали с ней договор. Нет никаких оснований рассчитывать на то, что условия этого договора буду выполнены Радой, не имеющей на Украине реальной власти, следовательно, надо пойти на Украину самим и забрать оттуда хлеб. Иначе непонятно, как пережить грядущую зиму — в Центральной Европе неурожай, а захват Румынии не дал и десятой доли ожидаемого оттуда зерна. Если не оккупировать Украину, то существует ещё и опасность оказания помощи России со стороны Антанты, заинтересованной в возобновлении военных действий на Восточном фронте — она ведь тоже может по-своему истолковать лозунг «ни войны, ни мира»». Закончил выступление Людендорф в своем излюбленном стиле: «С военной точки зрения является совершенным абсурдом спокойно сидеть и смотреть, как противник набирает силу. Необходимо действовать, и действовать предельно энергично. Именно это может быть гарантией достижения мира!»[50]
Кюльман принял вызов, выразив несогласие с точкой зрения Верховного командования. Он предложил обратить внимание на обострение обстановки внутри Германии, которое может привести к непредсказуемым последствиям в случае возобновления военных действий на Востоке. Против такого шага выступят не только левые, но и независимые партии, а недавние события показывают, что влияние левых сил в массах неуклонно растёт. В дополнение к внутренним проблемам Кюльман привел и внешние: новая война на Востоке может полностью разорвать союз с Австро-Венгрией, который и так держится «на честном слове». Катастрофическое положение в империи Габсбургов позволяет рассчитывать исключительно на то, что Австро-Венгрия способна помогать Германии только в защите территорий, принадлежавших Германии до начала войны. Следовательно, если на помощь Австро-Венгрии на Западе против Антанты ещё как-то можно опираться (правда, чем дальше, тем меньше), то на Востоке — против России — австрийцы воевать заведомо не будут.
Кюльман рассчитывал на помощь канцлера Гертлинга и вице-канцлера фон Пайера, но эти господа, по всей видимости не склонные к серьёзным размышлениям, вначале помалкивали, а потом согласились с точкой зрения Верховного командования. Кайзер продолжал «витать в облаках», по-видимому, ожидая заявления Кюльмана об отставке. Пробудился и Гинденбург, предложив конкретный план продвижения к Петрограду через Прибалтику и Нарву с оказанием вооружённой поддержки Финляндии.
Людендорф уже потирал руки: наконец-то они избавятся от этого надоедливого аристократишки, все время высовывающегося поперёк дороги. Пора, пора «повесить его скальп возле своего вигвама»! Ведь из-за него фактически развалился казавшийся незыблемым «триумвират ГЛГ» — сначала кайзер согласился на возмутительные обсуждения с Иоффе, и пришлось угрожать отставкой сразу Гинденбурга и Людендорфа, затем едва не отправился в отставку Гофман, и кайзер снова пошёл на поводу у Кюльмана, причем получилось так, что Гофман удержался только благодаря заступничеству Кюльмана, да к тому же его превосходительство генерал-квартирмейстер выступил в довольно жалкой роли, отказавшись лично ехать в Брест. Пусть Гофман продолжал люто ненавидеть Кюльмана, но он не забыл и не простил Людендорфу требования снять его с должности начальника штаба Восточного фронта и назначить каким-то командиром дивизии. Это его-то, Макса Гофмана, благодаря которому высоко взошла звезда Людендорфа в 1914 г. и без которого не было бы величайшей победы под Танненбергом! Его, Гофмана, который всегда был первым советником у Людендорфа по всем ключевым вопросам, а, значит — первым стратегом Германии, направляющим мысль всего триумвирата!
Разрыв между Гофманом и Людендорфом оказался окончательным и бесповоротным. Вместо монолитного триумвирата после Бреста осталось «двуглавое чудовище», в котором ведущую роль продолжал играть Людендорф, но уровень государственного мышления резко понизился. Политика Германии вместо «героического ГЛГ» превратилась в «гигантское Г».[51]
Несмотря на ситуацию «один против всех», Кюльман снова продемонстрировал присутствие духа и незаурядный ум. Да, топот сапог на этом коронном совещании у кайзера заглушил все ноты здравого смысла. Да, надежды на поддержку непосредственного начальства — Гертлинга и Пайера — не оправдались. Но именно поэтому — он теперь без всяких дипломатических двусмысленностей мог заявить, что в руководстве Германии остался один разумный человек: именно он, Рихард фон Кюльман — он не доставит удовольствие Людендорфу, совершая политическое самоубийство. Несколько дней назад он предлагал кайзеру отправить его в отставку — но тогда он выступал от имени главы миссии, несущего всю ответственность за последствия. Теперь же фактически превратили сами себя в политические трупы Гертлинг и Пайер, и ответственность за все взвалили на себя кайзер и Верховное командование. Что ж, в добрый (впрочем, какой там добрый!) час, господа. Рихард фон Кюльман не видит смысла при таком раскладе приносить себя в жертву.
«Я против возобновления военных действий. Но я не считаю этот вопрос столь важным, чтобы из-за этого выходить из правительства».
Людендорф с Гинденбургом приняли каменно-непроницаемый вид, а кайзер воспринял это заявление с видимым одобрением. «Скальп у вигвама» не будет повешен ещё 4 месяца, в течение которых Кюльман будет прилагать все возможные усилия для спасения Германии. Только когда станет известно о провале генерального наступления на Западном фронте и переходе в контрнаступление войск Антанты, результатом которого явится полный и окончательный разгром Германии, Кюльман подаст-таки в отставку. Но это будет уже «в другой жизни», означающей приход и другой Германии. Германии, в которой не будет ни империи Гогенцоллернов, ни «ГЛГ», ни Брестского мира.
Совещание в Гамбурге приняло решение, полностью соответствующее плану Верховного командования: возобновить с 18 февраля военные действия, занять всю Прибалтику и попытаться захватить Петроград, оккупировать Украину и ликвидировать там большевизм, приступить к извлечению хлеба и сырья. Наскоро придуманная Людендорфом формулировка отказа от перемирия гласила: «Неподписание Троцким мирного договора автоматически влечёт за собой прекращение перемирия».[52]
А что происходило в эти дни в Петрограде?
Сразу же после возвращения делегации из Бреста, 1 (14) февраля состоялось заседание ЦИК, на котором Троцкий выступил с подробным отчетом о работе делегации в Брест-Литовске. Отметим, что с 1 февраля вступил в действие декрет о введении в Советской России западноевропейского календаря. В силу этого первый день после 31 января было принято считать не 1, а 14 февраля, т.е. после этой даты уже нет необходимости обозначать даты по новому и старому стилю.
Оптимистическое настроение, которое привезла с собой делегация, в первые дни захватило практически всех. «Правда» писала: «Центральные державы оказались в сложном положении. Они не могут продолжить агрессию, не обнажая при этом свои людоедские клыки, с которых стекает человеческая кровь. Ради интересов социализма, а также ради их собственных интересов австро-германские трудящиеся массы не позволят совершить насилие над революцией».[53]
В данном случае «Правда» пересказывала точку зрения Троцкого, который именно так и заявил в своем отчёте: «Я думаю, что при той позиции, которую мы заняли, наступление поставило бы германских милитаристов в очень сложное и неудобное пололжение».[54]
По предложению Свердлова была принята резолюция ЦИК, одобрявшая деятельность делегации в Брест-Литовске. Эта резолюция была принята почти единогласно, даже Ленин проголосовал «за», но и в ходе заседания, и по окончании его он неоднократно задавал Троцкому вопрос: «Почему Вы так уверены, что они не обманут нас?»
Владимир Ильич ясно ощущал нереальность происходящего, ведь совсем недавно события в Германии показали, что немецкие рабочие пока что не в состоянии влиять на правительство, а тем более — на Верховное командование. Он снова и снова анализировал ситуацию, стараясь учесть все «за» и «против» возможности немецкого наступления. Не случайно, получив из Бреста сообщение от Троцкого об окончании переговоров с формулировкой «Ни войны, ни мира», он сказал: «Эта неопределенность нам обойдется дорого».
Прошло заседание 14 февраля, прошло 15 февраля, эйфория вокруг Смольного не утихала. Оживились эсеры, как левые, так и правые, выступившие с рядом предложений о восстановлении сотрудничества с большевиками. Утром 16 февраля Ленин и Троцкий беседовали в Смольном с представителями левых эсеров о согласовании дальнейших действий. В ходе беседы Ленину принесли сообщение из Бреста от генерала Самойло. Оно гласило: «Сегодня генерал Гофман официально уведомил меня, что перемирие с Российской Республикой прекращается 18 февраля в 12 часов дня, после чего в тот же день будут возобновлены военные действия. В связи с этим он предложил мне покинуть Брест-Литовск».
Ленин, стараясь не показывать своего настроения, немедленно передал телеграмму Троцкому. Постаравшись поскорее закончить разговор с эсерами и оставшись с Троцким наедине, он воскликнул: «Итак, они обманули нас! Обманули и выиграли целых пять дней! Остается немедленно подписать мир на немецких условиях, если они на это ещё согласны!».
Троцкий, стараясь хоть как-то удержаться на своей позиции, возразил: «Надо подождать, когда Гофман действительно начнет наступление. Очень возможно, что это — простая демонстрация».
Ленин не мог больше сдерживаться: «Нет! Нельзя терять больше ни минуты! У нас была возможность испробовать Ваш подход. Он не сработал. Гофман может и будет наступать. Речь идет о судьбе нашей революции! Медлить больше нельзя, этот хищник прыгает быстро. Мир нужно подписывать немедленно!»
17 февраля в кабинете Ленина собралось экстренное заседание ЦК. Предложение Ленина о немедленном подписании мира на немецких условиях не прошло.
Радек, сидя на подоконнике, восклицал: «Да не будут же немцы наступать — это ясно! Их приготовления — демонстрация, и только… Зачем им наступать, когда мы объявили демобилизацию?»
Сталин, вынув изо рта трубку, медленно повернулся к нему и холодно, как бестолковому гимназисту, произнес: «Военный механизм сделан для войны, а не для демонстрации. Немцы подготовили наступление и будут наступать, потому что мы не предложили мира. Если не предлагают мира, то всякий здравомыслящий человек понимает, что предлагают войну. Завтра немцы начнут войну, а это означает, что через пять минут ураганного огня у нас не останется ни одного солдата на фронте».
Весь день 17 февраля и ночь с 17 на 18 февраля отчаянные споры не утихали. А с фронта приходили известия одно тревожнее другого: немецкие аэропланы ведут активную воздушную разведку наших позиций… германская артиллерия передвигается на расстояние прямой наводки… в германских окопах началось повсеместное движение, к линии фронта массовым порядком подходят свежие части, одетые по-походному… повсюду задымили полевые кухни… германские прожектора ощупывают наши позиции…
Ленин снова и снова предлагал телеграфировать в Берлин о возобновлении мирных переговоров. Предложение отклонялось снова и снова. Среди ночи, почти под утро, на заседании наступил перерыв. Люди обессилели, многие засыпали прямо на местах. Ленин не отходил от письменного стола, готовя воззвание к народу о защите революции. Но вот силы оставили и его, он заснул за столом, оперевшись локтями на исписанные страницы и положив голову на ладони. В начале восьмого его тронули за плечо, поставив на стол чайник с морковным чаем. Владимир Ильич отхлебнул кипятку, спросил: «Какие новости с фронта?» —«Скверные». Ленин читал сообщения на извивающейся змеёй ленте «Бодо», и его лицо бледнело всё больше. В девятом часу заседание возобновилось. Ленин глухим голосом зачитал сообщения с бумажной ленты и сказал: «Остается три часа. Три часа, в которые мы ещё можем спасти все… Мы ещё можем предотвратить катастрофу, предложив мир».
В тяжелом молчании слышно было только хриплое дыхание собравшихся. Молчание прервал Сталин: «Вопрос, товарищи, стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо мы получаем передышку и укрепляемся… Этим не задерживается революция на Западе… Либо передышка, либо гибель революции… Другого выхода нет».
Новое голосование — за два часа до начала немецкого наступления — снова отклонило предложение Ленина.
Ровно в 12 часов фронт от Ревеля до устья Дуная окутался дымом тяжёлых орудий, затряслась от разрывов земля, поднялись в воздух аэропланы с чёрными крестами на крыльях, цепи солдат в стальных шлемах поднялись из окопов и пошли на приступ русских укреплений. Занимавшие укрепления остатки царской армии не оказали никакого сопротивления — они и не собирались его оказывать. Они начали дружно «голосовать за мир ногами» — бросать оружие, военные запасы, кидаться к вокзалам, станциям, цепляться за любые средства передвижения — лишь бы подальше от фронта. Армия не желала стрелять, убивать, драться — она желала бежать, желала сдаваться в плен, желала забыть про войну. Армия перестала существовать как армия, как организованная сила. Так что наступление немцев в строго военном смысле никак нельзя было назвать наступлением — русская армия была деморализована в гораздо большей степени, чем это предполагали даже сами немцы.
Немцы в общем-то были готовы к такому повороту событий. Они деловито расчищали забитые железнодорожные узлы, захватывали магистрали и продвигались по намеченным направлениям на Брянск, Киев, Одессу, Екатеринослав. Украина была оккупирована за несколько дней. Немецкие войска неудержимо устремились в Донбасс. Лозунг Троцкого обошелся существенно дороже, чем все аннексии и контрибуции, предъявленные на переговорах в Бресте. 689 тысяч квадратных километров территории России, 38 млн. жителей оказались под властью немцев. Только военных запасов на 2 млрд. золотых рублей — оружия, боеприпасов, одежды и продовольствия — хватало, чтобы экипировать целую новую армию. Всё это попало в руки оккупантов.
Вечером того же 18 февраля, когда немецкое наступление из угрозы стало фактом, снова собрался ЦК. Это было уже четвертое заседание за сутки.
Ленин начал говорить, сидя за столом: «Крах революции неизбежен, если будет и дальше проводиться политика «ни да, ни нет» — политика самая робкая, самая безнадёжная, самая неправильная из всего возможного… Немцы наступают, противодействовать мы не можем. Выжидать, тянуть с подписанием мира — значит сдавать русскую революцию на слом».
Ленин вскочил из-за стола, протиснулся на середину кабинета:
«Мы должны подписать мир, хотя бы немцы предъявили нам ещё более тяжёлые условия, чем раньше… Мы должны пойти на это во имя спасения революции!»
После тяжёлой паузы снова вспыхнули споры. Но на этот раз голосование дало-таки перевес ленинскому предложению: согласиться с мирными предложениями, выдвинутыми Центральными державами в Бресте. Радиотелеграмма была отправлена в ночь на 19 февраля. Она гласила: «Ввиду создавшегося положения, Совет Народных Комиссаров видит себя вынужденным подписать условия мира, предложенные в Брест-Литовске делегациями Четверного Союза. Совет Народных Комиссаров заявляет, что ответ на поставленные германским правительством точные условия будет дан немедленно».[55]
Чтобы немцы не могли заявить, что радиотелеграмма ими не получена и под этим предлогом не продолжали наступление, копия радиотелеграммы была вручена специальному курьеру, посланному навстречу наступавшим германским войскам. Ясное дело, теперь немцы спешить с ответом не будут. Только 20 февраля Гофман уведомил Петроград, что радиотелеграмма получена, а копия её передана в Берлин. При этом он заявил, что она должна быть подтверждена письменно и передана с курьером в руки германского коменданта города Двинска. Гофман не преминул обозвать Двинск по-немецки: «Дюнабург». Полученный им ответ содержал сообщение, что такой курьер уже выехал. Герр Гофман самодовольно записал при этом в дневнике: «Немедленно ночью получился ответ, что курьер с таким письменным предложением в пути. По-видимому, он очень спешит — мы же нет. К сожалению, наше наступление идёт слишком медленно, не хватает лошадей, дороги плохи. Пока мы не дойдем до озера Пейпус, мы не остановимся».[56]
Генерал даже в дневнике не может удержаться от хамского именования Чудского озера на свой лад. Еще более мерзкие цитаты из его дневников можно и не приводить.[57]
Две немецкие дивизии энергично продвигались к Петрограду, охватывая его с юга и севера — одна двигалась на Нарву, другая — на Псков. Несмотря на сетования генерала о медленности продвижения, войска продвинулись за трое суток наступления почти на 240 км. Было захвачено 2 тыс. орудий, несколько тысяч пленных, большое количество снаряжения. Гофман не может удержаться от куража, отмечая в дневнике: «Это была самая комичная война, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Мы сажали на поезд небольшое количество пехотинцев с пулеметами, устанавливали орудие и отправляли поезд до ближайшей станции. Там мы брали в плен находившихся в данном месте большевиков, брали на поезд ещё небольшое количество пехоты и ехали дальше. Так и осуществлялось продвижение вперёд; при этом удовольствие доставляло определенное чувство новизны».[58]
Генерал в своем фанфаронстве не замечает, как противоречит сам себе: то его беспокоит бездорожье и отсутствие лошадей, то он расписывает развесёлые поездки по железной дороге, зачисляя в большевики всех встречных и поперечных. Как же нравится иногда господам буржуям прикидываться идиотами! И если это относится даже к «элите» Верховного командования, то что же говорить об остальных?
Ничего «комичного» в эти дни и часы в Петрограде, разумеется, не происходило. Враг у ворот города! 21 февраля в газетах появилось знаменитое воззвание Ленина «Социалистическое отечество в опасности!». Вечером этого же дня было получено, наконец, уведомление из Берлина о получении радиотелеграммы из Петрограда и сообщено об изменении условий мира. 23 февраля в 10.30 утра эти условия поступили в Смольный.
Гофман и это откомментировал в дневнике: «Только сегодня утром отправили ультиматум. Надо прямо сказать, Министерство иностранных дел и Верховное главнокомандование хорошо поработали. Ультиматум содержит все требования, какие только можно выставить».[59]
Гофман здесь не забыл поиздеваться ещё и над Кюльманом — зная о том, что Кюльман был последовательным противником продолжения военных действий, он приписывает ему составление текста ультиматума, хотя ясно, что текст целиком стряпался Людендорфом при одобрении Гинденбурга и кайзера. Он включал 10 пунктов, из которых только два первых подтверждали «линию Гофмана». В остальном ультиматум шёл несравненно дальше.
Пункт 3 предлагал немедленно очистить Лифляндию и Эстляндию от русских войск и красногвардейцев. Обе области оккупировались немцами. Пункт 4 обязывал Советскую Россию заключить мир с Украинской Центральной радой. Украина и Финляндия должны быть очищены от русских войск. По пункту 5 Россия должна была возвратить Турции анатолийские провинции и признать отмену турецких капитуляций. Дальше пункты ультиматума можно цитировать полностью:
«Пункт 6. Русская армия немедленно демобилизуется, включая и вновь образованные части. Русские корабли в Черном и Балтийском морях и в Ледовитом океане должны быть приведены в русские порты и разоружены. Возобновляется мореплавание. В Ледовитом океане сохраняется немецкая блокада до заключения мира.
Пункт 7. Восстанавливается германо-русский торговый договор от 1904 г. К нему присоединяются гарантии свободного вывоза, право беспошлинного вывоза руды, гарантия наибольшего благоприятствования Германии по меньшей мере до конца 1925 г. и обязательство начать переговоры о заключении нового торгового договора.
Пункты 8 и 9. Вопросы правового порядка будут регулироваться согласно решениям русско-германской юридической комиссии. Россия обязуется прекратить всякую агитацию и пропаганду против стран германского блока как внутри страны, так и в оккупированных ими областях.
Пункт 10. Условия мира должны быть приняты в течение 48 часов. Уполномоченные с советской стороны немедленно отправляются в Брест-Литовск и там обязаны подписать в течение трех дней мирный договор, который подлежит ратификации не позже чем по истечении двух недель».[60]
За назначенные немцами 48 часов предстояло решить: или Россия — немецкая колония, или же она идёт по доселе никем не пройденному, совершенно новому пути. Все это время Петроград, выражаясь образными словами Алексея Толстого, «гудел, как улей, куда залезла медвежья лапа».[61] До появления немцев на Невском уже отсчитывали даже не дни — часы. Троцкисты, бухаринцы, левые и правые эсеры, меньшевики и т.д., и т.п. проводили бесконечные митинги, устраивая невероятный словесный понос: «Долой большевиков! Провались в тартарары Керенский со своей войной до победного конца! Чтоб ты сгнил на помойке, упрямый идиот Николашка!» Впору было вспомнить и всех предыдущих царей вплоть до Николая I, но они вроде с немцами не воевали.
Ленин никогда ещё не был в таком невероятном нервном напряжении. Он заявлял: «Я немедленно выхожу из ЦК и правительства, если ещё хоть секунду будет продолжаться эта политика революционных фраз! Или немедленный мир, или смертный приговор советской власти!»
В ночь на 24 февраля снова собрался ВЦИК. «Левые» коммунисты и левые эсеры словно с цепи сорвались. Они расписывали ужасающие картины крестьянских бунтов, с завываниями швырялись отказами от партийных и советских постов, вопили о государственной измене Ленина и всех, кто его поддерживал… В общем, в Таврическом дворце творился форменный бедлам.
А в это время один за другим уже третий день подряд с петроградских вокзалов отходили поезда на Псков и Нарву. Ленин вызвал из Могилева — бывшей царской ставки — военных специалистов и предложил им немедленно разработать план обороны Петрограда. Постановка задачи была весьма необычна. Ленин сказал генералам (царским!): «Войск у нас нет. Рабочие Петрограда должны заменить вооружённую силу». Оставив с генералами Сталина, Ленин отправился на заседание ВЦИК, где выступал перед беснующимися: «Можно кричать, протестовать, в бешенстве сжимать кулаки… Иного выхода, как подписать условия немецкого ультиматума, у нас нет. Суровая действительность, сама доподлинная жизнь, не созданная воображением, не вычитанная из книг, а такая, какой она существует во всей своей ужасающей правдивости, встала перед нами…»
Генералы — всё-таки это были патриоты России! — предложили план: выслать в направлении Пскова и Нарвы разведотряды по 30-40 бойцов и подбрасывать им в помощь один за другим отряды по 50-100 человек по мере формирования. Сталин одобрил этот план. Ленинское воззвание было издано огромным тиражом — в Петрограде, пожалуй, не было ни одного человека, не знакомого с ним. В коридорах Смольного, как и в октябрьские дни, невозможно было протолкаться — рабочие сплошным потоком двигались сначала вверх, потом, с оружием и наспех нацарапанными на клочках бумаги приказами вниз, спеша к вокзалам.
Ленин с тревогой спрашивал: «Успеем? Немецкие драгуны уже завтра могут появиться у Нарвских ворот!»
Сталин все тем же спокойным негромким голосом, каким он вел все разговоры, отвечал (разве что грузинский акцент казался сильнее): «Я полагаю — успеем. Роздано достаточно винтовок и пулеметов. А главное — город наводнён немецкими шпионами, и нам это сейчас на руку. Немецкое командование уже хорошо осведомлено о настроениях питерских рабочих. Под Нарвой и Псковом у немцев сосредоточено только две дивизии. С такими силами немцы вряд ли решатся лезть сейчас на Петроград».
Иосиф Виссарионович обладал настоящим качеством вождя — в самые страшные, казалось бы, безнадежные моменты он умел проявить особую силу воли, несокрушимость характера и умение принимать, на первый взгляд, парадоксальные, но тем не менее единственно правильные решения. В самом деле, тысячи немецких шпионов, шлявшихся в это время по Петрограду, не могли не видеть горящих глаз и стиснутых зубов вооружённых рабочих, сплошным потоком устремлявшихся к вокзалам. Поезда без всякого расписания отходили поминутно. Когда передовые части немцев вдруг стали натыкаться на пусть беспорядочный, но плотный огонь новосформированных пролетарских отрядов, а из Петрограда последовал поток донесений о всеобщей рабочей мобилизации — многие сотни тысяч человек, — занятие наличными силами северной русской столицы показалось Гофману совершенно безнадёжным делом. Триумфальное шествие от станции к станции, воспринимавшееся им как «комичная война», закончилось. Впереди просматривалась перспектива настоящей, затяжной войны, носящей народный характер, а такие войны, как понимал даже солдафон Гофман, выигрываются только при полном уничтожении противника. В планы «короткого, но мощного удара» это никак не входило. Гофман отдал приказ об остановке наступления на Петроград. Это совпало по времени с получением согласия Смольного на принятие условий немецкого ультиматума. День 23 февраля вошёл в историю как День Советской Армии, хотя, конечно никакой армии в настоящем понимании в этот день — 23 февраля 1918 г. — у Советской России ещё не было.
Лицемер Уилер-Беннет в полном соответствии с правилами буржуазной «двойной морали» пишет о том, что причиной остановки немецкого наступления явилось получение Гофманом радиотелеграммы от Крыленко в связи с принятием условий ультиматума. О вступлении в бой пролетарских отрядов, посланных из Петрограда под Псков и Нарву — ни слова! Якобы Гофман сначала заявил о том, что война будет продолжаться до прибытия новой русской делегации для переговоров в Брест-Литовск, а потом — неизвестно, почему — немецкие войска, достигшие Чудского озера и Нарвы, были остановлены. Получается, что либо Гофман наврал насчет продолжения военных действий, либо Уилер-Беннет наврал насчет причин остановки немецкого наступления. А наврали-то оба — Гофман из нежелания признавать конец «комичной» войны и перспективу войны настоящей, а Уилер-Беннет — из нежелания признать факт рождения новой, Красной Армии.
Гофман отправился в Берлин к Людендорфу с докладом. Алексей Толстой достаточно выразительно описал эту встречу, но сильно погрешил против истины, представив Людендорфа глубоким стариком.[62] В 1918 г. Людендорф был с полном расцвете сил, ему едва перевалило за 50, а Гофман был моложе него на 4 года и не достиг ещё и пятидесяти. Хотя переговоры в Бресте и породили глубочайшую трещину в отношениях Гофмана и Людендорфа, оба генерала понимали друг друга практически без слов.
Признав неудачу наступления на Петроград, Гофман предложил следующий план: «Проведённая не до конца операция на Востоке может не дать того, что мы от нее ждём. Моя точка зрения такова: занятие Украины и Донбасса не должно преследовать только экономические цели. Без установления соответствующего политического строя (а в России сейчас царит невообразимый хаос) возможность правильных торговых сношений с Россией исключена. Крайне опасные и возмущающие безобразия большевиков далее терпеть нельзя».
Людендорф. Это хорошо известно. Что Вы предлагаете?
Гофман. Чтобы избавить несчастную Россию от невыносимых страданий, по моему расчету, не требуется слишком больших усилий. Прямой наскок на Петроград, как показала практика, нецелесообразен — в городе влияние большевиков слишком велико. Если продвинуть наш левый фланг южнее, на линию Петроград-Смоленск и сформировать приличное русское правительство — я имею в виду великого князя Павла Александровича, который, по моим данным, ещё не расстрелян и ведет себя очень осмотрительно — то через пару недель Европейская Россия могла бы быть приведена в полный порядок, и мы смогли бы высвободить по крайней мере половину наших дивизий, а положение с сырьевыми ресурсами не вызывало бы нашего беспокойства.
Людендорф. Я вполне сочувствую Вашим идеям. Мы не должны и не будем иметь соседом государство, управляемое коммунистами. Но… У нас слишком связаны руки на Западе, чтобы затевать чересчур масштабные операции на огромных просторах Великороссии… Прежде чем делать это, нужно сначала решить игру на Западе, что, увы, не является простой задачей. Чем бы ни окончилась война, Англия и впредь будет препятствовать нашей экспансии на Запад, а теперь придётся иметь дело ещё и с Америкой. Да, историческая миссия Германии — движение на Восток. Но мандат на Восток мы должны получить в Шампани, на Сомме и Уазе. Занять Украину, Донбасс и Крым как плацдарм для продвижения в Месопотамию, Персию и Индию необходимо прочно и навсегда. Смольный принял наши условия мира, и делегация в Брест-Литовск мною уже послана. Отправляйтесь туда же. Надо подписывать мир.
Людендорф раскурил сигару, аккуратно положил на черенок и добавил: «Вам теперь будет значительно комфортнее разговаривать с русскими, чем раньше».
Хотя прежней доверительности между ними уже не было, Гофман понял, что имел в виду Людендорф: в Бресте теперь не будет Кюльмана. Он про себя подумал: «Вот бы там не было ещё и Троцкого».
А в дневнике записал: «Приедет ли подписывать мир лично Троцкий, или «идти в Каноссу» придется кому-то другому, но в любом случае товарищам придётся проглотить то, что мы перед ними поставим».[63]
Герр Гофман ещё не знал, что Троцкий уже не нарком иностранных дел, что 23 февраля на заседании ЦК, где были зачитаны условия германского ультиматума, он в последний раз присутствовал в этом качестве. Ленин принял его отставку, прошение о которой он подал 22 февраля, тем более, что для ведения дальнейших переговоров фигура Троцкого уже никак не подходила: для немцев Троцкий стал символом двурушничества, изворотливости и неискренности, и его уход с дипломатической сцены был бы ясным сигналом изменения отношения советского правительства к заключению мира.
А только ли для немцев Троцкий стал таким символом?
Вместе с известием об остановке немецкого наступления на Петроград было принято решение о посылке новой делегации в Брест. Руководителем делегации назначался замнаркома по иностранным делам Г.Я. Сокольников. Что особенно примечательно: в составе делегации появился настоящий профессионал-дипломат — Георгий Васильевич Чичерин. Его влияние на всю работу делегации было настолько сильным, что практически сразу после подписания мирного договора он де-факто, а вскоре и официально возглавил МИД.
Любопытно, что условия мира, предложенные Берлином Петрограду, стали известны в рейхстаге только после того, как они были получены и одобрены в Смольном. Кюльмана в спешном порядке отправили в Бухарест для заключения мира с Румынией; ясно было, что от него таким образом просто постарались избавиться. Но и без него дебаты в рейхстаге были довольно показательными: правые и центристы одобрили условия договора, социал-демократы выступили с резким их осуждением. Особенно запомнилось выступление Шейдемана — того самого Шейдемана, который был отхлестан за свой социал-шовинизм Лениным и с которым Ленин презрительно отказался встречаться по дороге в Россию в марте 1917 г. Он заявил, что социал-демократическая партия Германии никогда не стремилась делать то, что делается сейчас в отношении России. «Мы защищали нашу страну от русского царизма, но мы не боремся и не собираемся бороться за расчленение России… Политика, проводимая в отношении России — это не наша политика… Мы не хотим сейчас стремиться к диктату и доминированию над другими, поскольку это приведёт к тому, что нам придется заключить с Антантой мир на тех же условиях, на которых Ленин и Троцкий сейчас заключают его с Четверным союзом».
Шейдеман заканчивал свое выступление под свист и улюлюканье правых. А ведь оно в точности соответствовало мнению Кюльмана, и до заключения Версальского мира оставалось меньше года. Но и другие социал-демократы отнеслись к принятию условий мира Советским правительством с презрением. Так, Ф. Стампфер писал: «Можно лишь содрогнуться при мысли о том, с какой легкостью большевики отдают российскую территорию. Германские социал-демократы никогда бы так не поступили, окажись они в аналогичных условиях».[64]
Германские социал-демократы оказались «в аналогичных условиях» очень скоро. Более того, после падения империи Гогенцоллернов они долгое время находились у власти и сыграли в истории Германии самую жалкую роль, подготовив все условия для фашистской диктатуры Гитлера.
Но это всё будет потом. А пока в Брест-Литовск ехали новые делегации, чтобы заключить наконец мирный договор.
Российская делегация во главе с Сокольниковым выехала вечером 24 февраля, сразу же после принятия ВЦИК германского ультиматума и сообщения об этом телеграммами в Берлин, Вену, Софию и Константинополь. Попасть в Брест теперь было гораздо труднее, чем раньше — надо было ехать через вновь оккупированные немцами районы. До Пскова добрались относительно благополучно, вечером 25 февраля, но дальше ехать по железной дороге было невозможно — взорван железнодорожный мост. А тем временем немецкое наступление продолжалось. Чичерин предложил срочно отправить телеграмму в Берлин с объяснениями причин задержки и протестами против продолжения военных действий, но и это представляло проблему в оккупированном немцами Пскове. Немецкое командование относилось к членам делегации с холодным презрением и отнюдь не спешило с помощью в передаче телеграммы, а население Пскова и вообще встречало миссию в основном непечатными словами. Пришлось провести два дня в томительном ожидании. Можно себе представить, каково было терпеть это Сокольникову и его спутникам, когда они прекрасно понимали, что время работает сейчас на немцев, и опоздание против назначенных сроков может быть поводом для выдвижения ещё более тяжёлых условий мира. Только 28 февраля советская делегация попала, наконец, в Брест и вновь заявила протест против продолжения военных действий. Гофман в ответ заявил, что военные действия будут прекращены только после подписания мира. Это значило, что наступление на Украину и Белоруссию будет продолжаться, невзирая на наши протесты.
Заседание мирной конференции открылось 1 марта. Председательствовал фон Розенберг — тот самый, которого чуть ли не в шею выгнал Троцкий 9 февраля. Надо понимать, что он не забыл этого и начал заседание с напоминания о необходимости подписания мира в течение трёх дней, а также с особым сладострастием повторил заявление Гофмана о том, что военные действия будут прекращены только после подписания мира. Опасения Сокольникова и Чичерина подтвердились: к и так тяжёлым условиям ультиматума, принятым 23 февраля, добавилось ещё и требование включения Ардагана, Карса и Батума в число земель, предоставляемых Турции. Розенберг добавил в заключение: «Мы собрались здесь не для речей и прений, но для подготовительных работ по подписанию мирного договора и для заключения самого договора».[65]
Следом за этим Розенберг предложил закрыть заседание и образовать три комиссии: политическую, экономическую и правовую, для обсуждения отдельных пунктов мирного договора. Это предложение было немедленно отклонено, причем Сокольников от имени советской делегации заявил, что не видит в создании комиссий никакой необходимости, поскольку это только затянет работу по подписанию договора. Ведь обсуждать, по сути, нечего: Центральными державами выдвинут ультиматум, и Россия принимает условия, предложенные Германией.
Розенберг был озадачен. Такое поведение российской делегации не входило в его планы. Он попытался заявить, что Россию никто не заставлял принимать условия, выдвинутые Центральными державами, она сделала это по своей воле. Поэтому он повторил предложение об организации комиссий.
Сокольников переглянулся с Чичериным и предоставил слово ему.
Чичерин пояснил, что российская делегация приехала, чтобы подписать договор, а не вести переговоры. Обсуждение условий мира будет означать, что представители Советской России согласились на какое-то сотрудничество и тем самым «простили» противной стороне выдвижение ультиматума. Советская делегация как раз хотела бы избежать даже малейшей видимости того, что могло бы натолкнуть на мысль о какой-то сделке. Вслед за этим Чичерин от имени советской делегации потребовал, чтобы экземпляры основного мирного договора были немедленно предоставлены для ознакомления и изучения.
Розенберг явно смешался и не нашел, что сказать. В дело опять пошел сапог Гофмана, которым генерал пнул под столом своего напарника, и протоколы были российской делегацией получены. Желая сохранить лицо, Розенберг заявил при этом: «Условия и наши требования изменились. Требования увеличились; но и теперь они ещё далеки от того, чтобы их можно было рассматривать как бесцеремонную эксплуатацию соотношения сил».[66]
Ему подпели представители Австро-Венгрии и Болгарии, в один голос твердившие, что мир, подлежащий подписанию, никоим образом не является насильственным или продиктованным России. Особенно анекдотично прозвучало выступление представителя Болгарии, пустившегося в нравоучения: «Настоящее положение дел является результатом близорукой политики России».[67]
Интересно, что в одном из своих первых публичных выступлений в 1919 г. Гитлер избрал главной темой именно Брестский мир как образец мирного договора. Не советская, а немецкая историография утверждает при этом, что подобное выступление было подсказано свыше, т.е. германским главным командованием. Более чем убедительное подтверждение правильности определения фашизма как наиболее последовательной формы империализма — уже при своем зарождении гитлеризм пестовался заботливыми «родительскими руками»[68].
Российская делегация приступила к изучению представленных документов, причем хамство со стороны «партнеров» заключалось ещё и в том, что имелся в наличии только немецкий текст договора, тогда как по всем нормам международного права он должен быть составлен на языках всех участвующих в подписании сторон, т.е. на пяти языках. Вот где пришлось весьма кстати совершенное знание Чичериным всех европейских языков! Много времени на изучение не понадобилось, и по возобновлении работы конференции 2 марта Сокольников повторно заявил, что договор представляет собой мир, заключаемый в условиях диктата. Россия соглашается на подобный мир только под военным давлением со стороны германских армий, которые и сейчас, во время работы мирной конференции, продолжают наступать. Советская делегация, хотя она и не имела достаточно времени для тщательного изучения полученных документов, готова подписать их на следующий день, если к этому готовы и делегации Центральных держав. Всякие переговоры в условиях насилия и диктата исключены.
Встречные выступления Розенберга и представителя Австро-Венгрии Мерея напоминали кликушество: как это так русские могут утверждать, что мирные условия им навязаны, когда все они были до мельчайших подробностей обсуждены в ходе предыдущего периода работы конференции? Если же они настаивают и утверждают, что подписывают договор не глядя и по принуждению, то Центральные державы с такой точкой зрения согласиться не могут.
Сокольников снова предоставил слово Чичерину, который пояснил, что речь не идет о подписании договора «не глядя», но переговоры о его содержании исключаются. Согласие или несогласие Центральных держав с точкой зрения российской делегации в тексте договора не содержится и не обсуждается, поскольку этот текст предложен Центральными державами и принимается российской делегацией. Следовательно, предлагается немедленно перейти к процедуре подписания договора и закончить на этом работу конференции.
Выступление Чичерина полностью соответствовало всем правилам дипломатической игры, так что Розенбергу и Мерею было не за что зацепиться. В то же время они ощущали явный дискомфорт: получалось, что побеждённая сторона диктует условия подписания договора. Более того, поскольку был готов только немецкий текст договора, «немедленным» подписание никак быть не могло, и Розенбергу со товарищи предстояло лихорадочно переводить текст на болгарский, венгерский, чешский, польский и (о, ужас!) турецкий языки, чтобы уложиться в ими же самими поставленные сроки подписания! Перевод на русский язык Чичерин в виде большого благодеяния согласился проделать самолично.
После очередного применения «сапожной дипломатии» в подстольном варианте со стороны Гофмана заседание 2 марта закрылось, и бригада Розенберга бросилась готовить все экземпляры договора к подписанию.
Смольный в это время анализировал возможные осложнения, наученный горьким опытом предыдущих этапов переговоров. В этот же день, 2 марта, Ленин отдал распоряжение всем местным Советам, в котором говорилось: «Мы полагаем, что завтра, 3 марта, будет подписан мир, но донесения наших агентов в связи со всеми обстоятельствами заставляют ожидать, что у немцев возьмет верх партия войны с Россией в ближайшие дни. Поэтому… демобилизацию красноармейцев затягивать; подготовку подрыва железных дорог, мостов и шоссе усилить; отряды собирать и вооружать; эвакуацию продолжать ускоренно; оружие вывозить вглубь страны».[69]
Церемония подписания мирного договора была завершена 3 марта в 17 часов 50 минут. В 17 часов 52 минуты мирная конференция была объявлена закрытой.
Текст Брест-Литовского договора многократно приводился и обсуждался в литературе, поэтому возвращаться к подробному рассмотрению его статей нет необходимости, да и желания. Лучше снова вспомнить поэтические строки:
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься!
И фронт
расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
Сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
Ловили бегущих
в свое словоблудьище,
Тащили
по-рыцарски
глупой шпажонкой
Красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!
Пусть партия
взвалит
и это бремя.
Возьмём
передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
выигрыш — время.
Условия, подписанные 3 марта, были, конечно, исключительно тяжёлыми для Советской России. Россия теряла 34% населения, 32% сельскохозяйственных земель, 85% земель, занятых сахарной свеклой, 54% промышленных предприятий и 89% (!!) угольных месторождений. Масштаб германских приобретений был колоссальным. Но это же было и новой проблемой: в условиях продолжающейся войны не было возможности толком осваивать эти приобретения. Германские солдафон-стратеги поэтому рассматривали политические аспекты Брестского договора куда более значимыми, чем экономические. Поскольку исчезла военная угроза с Востока, можно было позволить себе форсировано решать «западный» вопрос, перейдя в решительное наступление против стран Антанты. Пусть это и не приведет к полному разгрому противника, но заставит Антанту заключить мир на вполне приемлемых для Германии условиях, а вот тогда можно будет вернуться к приобретениям на Востоке и с традиционно немецкой методичностью и тщательностью осваивать эти несметные богатства. Более того, подписанный договор с Украиной позволял это делать, не очень-то и торопясь — контроль над богатыми и плодородными землями Украины вполне позволял со вкусом пережевывать лакомые куски, рассматривая самые благоприятные перспективы на будущее.

|
Территориальные изменения в результате переговоров в Брест-Литовске: жирная черная линия — граница территории, оккупированной германскими войсками в результате наступления, начатого 18 февраля; мелкий точечный пунктир — границы России до начала мировой войны; точечный жирный пунктир — граница позиций, с которых Германия начала вторжение на Украину и в Донбасс после захвата Киева и Одессы. |
Примерно так рассматривали результаты подписания Брестского мира германские (да и не только германские, а и подавляющее большинство политиков Запада) стратеги.
А что же дальше происходило в Советской России?
Само собой, поручиться, что Германия будет строго соблюдать условия мирного договора, никто не мог. Тем более, что несмотря на неоднократные заявления германской стороны касательно увязки военных действий с подписанием мирного договора, на юге наступление немцев продолжалось.
Гофман постоянно и нагло врал: сначала он врал, объявляя, что наступление продолжится до начала переговоров о подписании мира, что даже записано у него в дневнике (см. выше), затем, слушая протесты нашей делегации, врал, что наступление продолжится до подписания мира. Мир подписан, наступление на юге продолжается, и нет никакой гарантии, что оно не продолжится и на севере, где от Нарвы до Петрограда можно дойти за несколько часов. В таких условиях принимать на веру то, что написано в договоре — значит расписываться в том, что ты наивный простачок, если не выразиться покрепче.
6 марта 1918 г. в Петрограде собрался Чрезвычайный VII съезд РКП (б). После этого съезда партия именовалась именно так, поскольку съезд принял решение о переименовании партии из социал-демократической в коммунистическую. Но главным, конечно, был вопрос о войне и мире. «Леваки» продолжали вопли в духе «Ленин — предатель революции», Бухарин с ближайшими сподвижниками заявили о выходе из партии. Острота полемики на съезде превзошла все мыслимые пределы. Ленин тоже вёл её на весьма повышенных тонах — ранее никто не видел его на партийных форумах кричащим. Но железная логика его выступлений, даже пусть и в форме выкриков, взяла верх. Знаменитая «Резолюция о войне и мире», говорящая: «Съезд признает необходимым утвердить подписанный Советской властью тягчайший, унизительнейший мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей, возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую социалистическую распублику»,[70] была принята абсолютным большинством голосов. Тогда же, вместе с переименованием партии и решением перенести столицу из Петрограда в Москву, было принято решение считать день 23 февраля Днем Красной Армии. Переезд состоялся немедленно после окончания работы съезда, и 11 марта выходит ленинская работа «Главная задача наших дней», опубликованная уже в Москве. В этой работе — устремление в завтрашний день: «И… если Россия идёт теперь — а она бесспорно идёт — от «Тильзитского» мира к национальному подъему, к великой отечественной войне, то выходом для этого подъема является не выход к буржуазному государству, а выход к международной социалистической революции…та отечественная война, к которой мы идем, является войной за социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Советскую республику, как отряд всемирной армии социализма».[71]
Ратификация Брестского договора требовала созвать также и Чрезвычайный, IV Съезд Советов, главным вопросом которого, как и съезда партии, являлся вопрос о мире. Этот съезд состоялся в Москве с 14 по 16 марта.
В день открытия Съезда Советов, 14 марта, в «Известиях» появилась статья И.В. Сталина, озаглавленная «Украинский узел». Ленин ещё что есть сил боролся с «революционными фразёрами», а Сталин уже размышлял о том, как быть, если Украина — извечная всенародная житница — окажется отрезанной от России.
Да, немцы подписали договор с «мёртвыми душами». Да, Советская власть на Украине вытеснила буржуйскую Раду далеко на запад. Но Брестский договор обязал признать власть этой самой Рады и вступить с ней в переговоры. Немецкие же дивизии, стремительно продвигающиеся по Украине на восток, везут в своих обозах всё тех же «живых мертвецов» и везде усаживают их как представителей «народной власти» Украины. Большевистское правительство Харькова не в состоянии противостоять натиску полутораста тысяч немцев, закаленных в боях мировой войны, прекрасно вооружённых и экипированных, преисполненных энтузиазма при виде украинских пейзажей: белые уютные хаты под соломенными крышами, сады, обещающие вот-вот зазеленеть, длиннющие амбары, полные зерна — словом, молочные реки в берегах из так любимого немецкими обывателями «пумперникеля» — сладенького сдобного хлебца.
|
Немецкие войска в Киеве (март 1918 г.) |
Киев был занят немцами 1 марта, Одесса — 12 марта. Однако, несмотря на быстрое продвижение, Людендорф хорошо понимал, что одних немецких войск для успешной оккупации Украины недостаточно — неминуемо рассредоточение сил по большим площадям, а ведь население оккупированных областей вовсе не в восторге от прихода новых «хозяев», и каждый пуд хлеба придется «выколачивать».
В Киеве было посажено «правительство» восстановленной у власти Рады. Главнокомандующим войсками на Украине Людендорф назначил генерал-фельдмаршала Эйхгорна. Вся Украина была поделена на зоны оккупации между войсками Германии и Австро-Венгрии: север отводился Германии, а юг — его союзнику. Что дальше?
Статья Сталина от 14 марта давала вполне определённый прогноз на этот счёт.
Прежде всего он отметил тот факт, что ещё до заключения Брестского мира, в конце февраля, «Народный секретариат Украинской Советской Республики послал делегацию в Брест с заявлением о том, что он согласен подписать договор с германской коалицией, заключённый бывшей Киевской радой. Представитель германского командования в Бресте, небезызвестный Гофман, не принял делегацию Народного секретариата, заявив, что не видит надобности в мирных переговорах с последней. Одновременно с этим германские и австро-венгерские ударники, совместно с гайдамацкими отрядами Петлюры — Винниченко, предприняли нашествие на Советскую Украину.
Не мир, а война против Советской Украины,— таков смысл ответа Гофмана. По договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна отпустить Германии до конца апреля 30 миллионов пудов хлеба. Мы уже не говорим здесь о «свободном вывозе руды», потребованном Германией.
Народному секретариату Советской Украины, несомненно, известен был этот пункт договора, и он знал на что шёл, когда официально выражал согласие подписать винниченковский мир. Тем не менее, германское правительство, в лице Гофмана, отказалось вступить в мирные переговоры с Народным секретариатом, признанным всеми Советами Украины, городскими и сельскими. Союз с мертвецами, союз со свергнутой и изгнанной Киевской радой оно предпочло мирному договору с признанным украинским народом Народным секретариатом, единственно способным дать «нужное количество» хлеба».
Сталин с присущей ему политической зоркостью разделяет политические и экономические аспекты оккупации Украины австро-германскими войсками. То, что население Украины, прежде всего в лице рабочих и беднейших крестьян (а это не менее 90% от всей численности 20-миллионного населения Украины), поддерживало Советскую власть и решительно не воспринимало буржуазно-эсеровскую Раду, отмечают даже современные украинские «певцы самостийности». Подобно тому, как правительство Советской России пошло на «похабный» Брестский мир ради спасения революции, правительство Советской Украины готово было выполнять все экономические обязательства, взятые на себя перед немцами паскудной Радой, только бы сохранить Советскую власть. Людендорф громко вопил в ставке кайзера о том, что Украина нужна Германии ради хлеба. Казалось бы, что ещё надо — представители Советской Украины гарантируют поставки хлеба, только не трогайте Советскую власть. Нет, оказывается, хлеб — это не главное. По сути, Людендорф нагло наврал своему разлюбезному кайзеру. А что же главное? А это весьма доходчиво разъясняет Сталин:
«Это значит, что австро-германское нашествие имеет своей целью не только получение хлеба, но и, главным образом, — свержение Советской власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима. Это значит, что немцы не только хотят выкачать из Украины миллионы пудов хлеба, но пытаются ещё обесправить украинских рабочих и крестьян, отобрав у них кровью добытую власть и передав её помещикам и капиталистам. Империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского, — таков смысл нашествия с Запада».
Пригвоздив оккупационный режим к позорному столбу, Сталин далее демонстрирует всю близорукость политики империализма — людендорфы и гинденбурги, а с ними и все гофманы и эйхгорны не в состоянии понять, что войну против народа выиграть нельзя:
«Это чувствует, по-видимому, украинский народ, лихорадочно готовясь к отпору. Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, ряд удачных стычек с “цивилизованными” насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями, — вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников. Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную отечественную войну,—таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине. Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется брать германцам с бою, в результате отчаянной схватки с украинским народом. Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоёвана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру — Винниченко. «Короткий удар», которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев (и хлеб получить, и Советскую Украину сломить), имеет все шансы превратиться в затяжную войну иноземных поработителей с двадцатимиллионным народом Украины, у которого хотят отнять хлеб и свободу.
Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и крестьяне не пожалеют своих сил для героической борьбы с «цивилизованными» насильниками? Нужно ли ещё доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны всей Советской России? А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превратится, наконец, в войну всего честного и благородного в России против нового ига с Запада? А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут, наконец, что заправилами Германии руководят не цели «обороны немецкого отечества», а простая ненасытность обожравшегося империалистического зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практические выводы?
Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности, — узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада? Обожравшийся империалистический зверь, сломивший себе шею на Советской Украине,— не к этому ли ведёт теперь неумолимая логика событий?..
«Известия» № 47, 14 марта 1918 г.
Подпись: И. Сталин[72]
Беспощадный вывод Сталина полностью подтвердится в недалёком будущем.
Прошедший в Москве Чрезвычайный IV Всероссийский Съезд Советов ратифицировал Брестский мир и принял официальное постановление о переносе столицы в Москву. За ратификацию проголосовало абсолютное большинство делегатов (784), против — 261 (почти все присутствовавшие на съезде эсеры), воздержалось — 115 (в том числе «левые коммунисты»).
Не менее (а может быть, даже более) интересно и следующее: прошли всего сутки после закрытия Всероссийского Съезда Советов, и в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) состоялся Второй Всеукраинский Съезд Советов, прошедший с 17 по 20 марта 1918 г. Съезд провозгласил независимость Украинской Советской Республики и призвал рабочих и крестьян Украины к решительному отпору немецким оккупантам. На съезде присутствовала делегация Советской России, в составе которой были и «левые коммунисты». Они выступили с предложением осудить заключение Брестского мира Советским правительством России. Вопрос был поставлен на голосование. Из 964 делегатов 420 проголосовали против этого провокационного предложения, 290 — за, остальные воздержались.[73]
Заметим ещё раз особо: Съезд проходил в условиях оккупации Украины немецкими войсками и насильно посаженной на шею народа буржуазно-эсеровской власти! При этом большевистская резолюция об организации всенародного отпора захватчикам была принята 408 голосами против 308. Как будто статья Сталина «Украинский узел» была написана крупными буквами перед глазами делегатов!
В эти дни немецкий «правитель» Украины генерал-фельдмаршал Эйхгорн получил ультиматум большевистского правительства Донецко-криворожской республики за подписью председателя правительства Ф.А. Сергеева (Артема). Ультиматум заявлял, что в случае нарушения границ Донецко-криворожской республики последняя будет считать себя в состоянии войны с Германией.
Генерал-фельдмаршал повертел в руках этот странный документ на четвертушке бумаги с непонятной расплывчатой печатью и трижды внимательно прослушал перевод. «Господин товарищ Артем считает себя в состоянии войны с Германией?» Эйхгорн никак не мог понять: то ли ему возмутиться, то ли расхохотаться.
Какая может быть война, если разрозненные большевистские отряды не насчитывают и двадцати тысяч, а общая численность австро-германских войск на Украине превышает двести тысяч? Да и те двадцать тысяч никак нельзя считать военной силой, поскольку никакого воинского порядка и никакого единого управления в красных отрядах не просматривается. «Вместо боевого расположения солдаты массами покидают свои позиции и ловят рыбу в Осколе… Линии фронта как таковой просто нет, раздолье для шпионов… Караулы играют в карты или спят… Беспорядочная стрельба не даёт возможности распознать — где происходит хулиганская трата патронов, а где действительно идёт бой».
Подобные донесения пачками лежали на столах немецкого командования. Но уже в том самом марте 1918 г. в мозги оккупантов упорно заползала тревога: обещанные поставки хлеба с Украины срывались почти полностью. Вместо 300 грузовиков зерна в день, как было предусмотрено соглашением с Украиной, подписанным за спиной Троцкого, в Берлин, Вену и Будапешт прибывало всего по одному грузовику, да и то это было зерно, изъятое с захваченных складов и не соответствующее первичной иллюзии немцев о «молочных реках в берегах из пумперникеля». А крестьяне упорно прятали запасы зерна как могли.
Развитие событий на Украине гораздо больше напоминало статью Сталина, чем прогнозы Людендорфа.
Но главное было ещё впереди. Шел март 1918 г.
[1] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 217
[2] Брусилов А.А.. Мои воспоминания. — М.: 1983. — с. 183-186
[3] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 88.
[4] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 49
[5] Там же, с.104
[6] Курляндия – традиционное название территории бывшего Ливонского ордена, после его распада в XVIII в присоединенная к России, занимала часть Латвии и Литвы; «русская Польша» - земли, населенные поляками и входившие в состав Российской империи.
[7] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 52.
[8] Там же, с. 53.
[9] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 313-314.
[10] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с.118.
[11] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 125.
[12] Там же, с. 130.
[13] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с.315-318.
[14] М. Гофман. Записки и дневники, 1914-1918, пер. с нем. — Л.: изд «Красная газета», 1929 — с. 116.
[15] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 128.
[16] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с.129
[17] Там же — с. 129
[18] О. Чернин. В дни мировой войны, пер. с нем. — М.-П.: ГИЗ, 1923. — с. 249.
[19] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 323-325.
[20] Там же, с. 325.
[21] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с. 330.
[22] М. Гофман. Записки и дневники, 1914-1918, пер. с нем. — Л.: Изд. «Красная газета», 1929 — с.133.
[23] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с.152
[24] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с.150
[25] Там же, с 151
[26] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 155
[27] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 156
[28] И.В. Сталин. Собр. соч., т.4.— М.: Госполитиздат, 1947. — с. 15-21
[29] Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., т. II, пер. с нем.— М.: Госиздат, 1924. — с. 127
[30] Хереш Э. Купленная революция. Пер. с нем.— М.: 2005. — с. 327
[31] Мирные переговоры в Брест-Литовске, т.1. — М.: изд. НКИД, 1920. — с. 96
[32] Там же, с. 126
[33] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 161
[34] Там же, с. 162
[35] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 382
[36] Там же, с 382
[37] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 401-408
[38] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 347-354
[39] В.И. Ленин. Соч., изд. 4, т.26. — М.: Госполитиздат, 1949. — с. 409-410
[40] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 188
[41] А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю, т. 2. — М.: Гослитиздат, 1959. — с. 288
е[42] Там же, с. 189
[43] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 200-201
[44] Там же.
[45] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 205-206
[46] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 211
[47] Там же, с. 210.
[48] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 212
[49] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 214-215
[50] Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., т. II, пер. с нем.— М.: Госиздат, 1924. — с. 192
[51] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 138
[52] Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг., т. II, пер. с нем.— М.: Госиздат, 1924. — с. 134
[53] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 224
[54] Там же, с. 225
[55] Мирные переговоры в Брест-Литовске, т.1. — М.: изд. НКИД, 1920. — с. 264
[56] М. Гофман. Записки и дневники, 1914-1918, пер. с нем. — Л.: Изд. «Красная газета», 1929 — с. 240
[57] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 227-228
[58] Там же. с. 229
[59] М. Гофман. Записки и дневники, 1914-1918, пер. с нем. — Л.: Изд. «Красная газета», 1929 — с. 240-241
[60] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с. 343
[61] А.Н. Толстой. Избранные произведения. Хлеб. — М.: Московский рабочий, 1951. — с. 586
[62] А.Н. Толстой. Избранные произведения. Хлеб. — М.: Московский рабочий, 1951. — с. 592-593
[63] М. Гофман. Записки и дневники, 1914-1918, пер. с нем. — Л.: Изд. «Красная газета», 1929 — с. 242-243
[64] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 246.
[65] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с. 343
[66] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с. 344
[67] Там же, с. 344
[68] История дипломатии, т.2. — М.-Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. — с. 345
[69] Уилер-Беннет Дж. Брестский мир. Пер. с англ.— М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. — с. 249
[70] В.И. Ленин. . Соч., изд. 4, т.27. — М.: Госполитиздат, 1950. — с. 94-95
[71] В.И. Ленин. . Соч., изд. 4, т.27. — М.: Госполитиздат, 1950. — с. 136-137
[72] И.В. Сталин. Собр. соч., т.4. — М.: Госполитиздат, 1947. — с. 6-21
[73] В.И. Ленин. . Соч., изд. 4, т.27. — М.: Госполитиздат, 1950. — с. 535